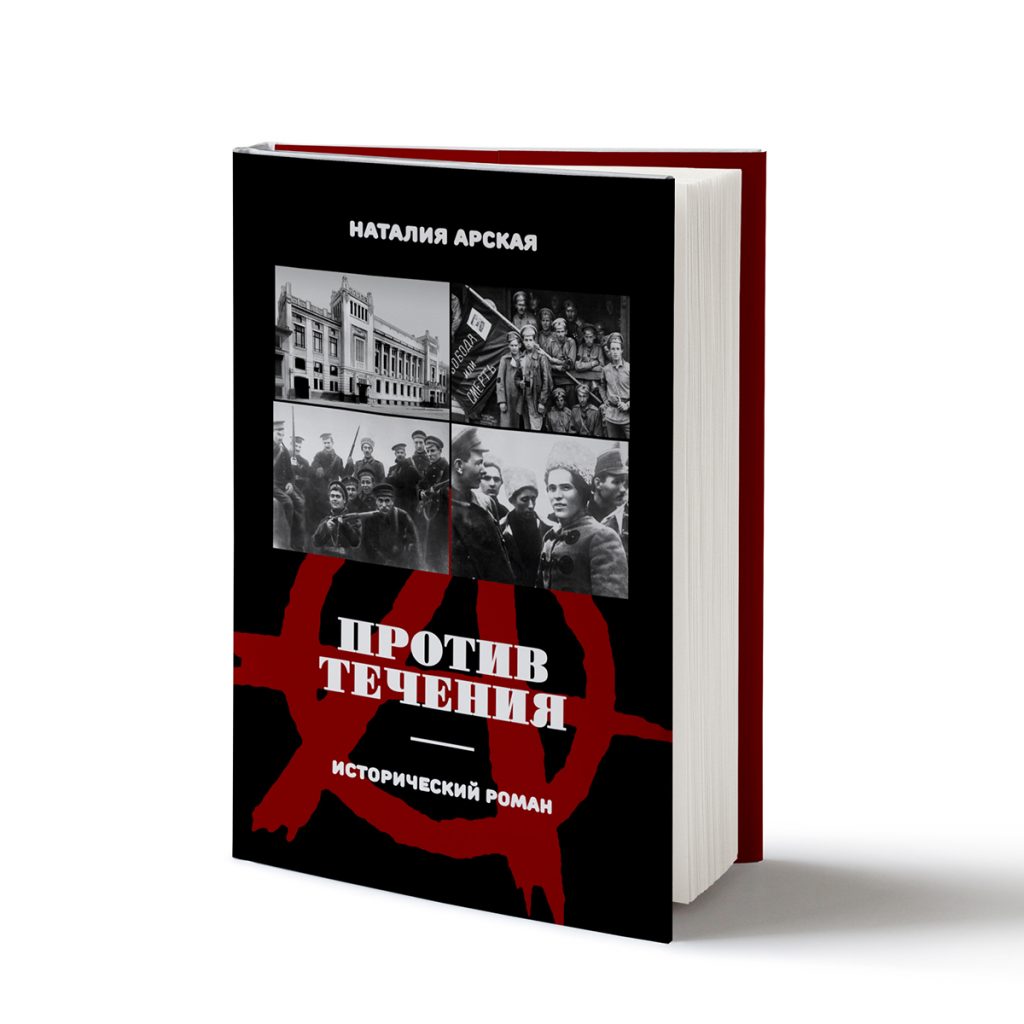
Приобрести книгу в интернет-магазине «Новое Слово»
Аннотация книги:
В новом романе «Против течения» писателя и журналиста Наталии Арской освещается одна из малоизвестных страниц в истории России – борьба большевиков с анархистами. Став после революции 1917 года во главе государства, Ленин и Троцкий развязывают кровавый террор против бывших соратников, в том числе анархистов. По всей стране идут массовые аресты и расстрелы. В эту мясорубку попадает вернувшийся из вынужденной эмиграции главный герой книги Николай Даниленко. Как и многие его товарищи, истинный анархист, он вступает в открытую борьбу с властью. Ему предстоит пережить преследования ЧК в России и на Украине, очутиться в застенках харьковской тюрьмы, а затем и московской Бутырки, побывать в руках деникинской контрразведки. На Украине он тесно связан с анархистами Повстанческой армии Нестора Махно и самим батькой. В Гуляй-поле они часто беседуют с Махно об его идее создать на родине вольную республику.
Вместе с героями книги читатель станет очевидцем важных исторических событий: разгрома анархистов в Москве; террора ЧК в Киеве; оккупации немцами Украины; падения Центральной Рады и установления власти гетмана Скоропадского; борьбы Троцкого с Махно и махновщиной; восстания армии Григорьева в Екатеринославе и др.
Особый интерес книга представляет тем, что основана на реальных фактах и документах, а художественное развитие сюжета, личности героев, их внутренний мир и взаимоотношения еще больше захватывают читателя, погружая его изнутри в атмосферу той противоречивой и трагической эпохи. Роман «Против течения» завершает трилогию об анархистах под общим названием «И день сменился ночью», в которую также входят книги «Рыцари свободы» и «Вдали от России». Каждая из них является самостоятельным художественным произведением.
Часть первая. Праздник души кончился
Часть вторая. Москва златоглавая
Часть третья. Еще одна революция
Часть четвертая. Иноземное нашествие
Часть пятая. Сами себе хозяева
Часть шестая. Конец центральной раде
Часть седьмая. Разгром анархистов
Часть восьмая. Петлюра сбросил гетмана
Часть девятая. Махно поднимает народ
Часть десятая. Старая новая любовь
Часть одиннадцатая. Обух плетью не перешибешь
Часть двенадцатая. И снова фронт
Часть тринадцатая. Что ни власть, то бандиты
Часть четырнадцатая. Западня
Часть пятнадцатая. Ночной гость
Часть шестнадцатая. Свобода, но надолго ли
Часть семнадцатая. ГПУ бесчинствует
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРАЗДНИК ДУШИ КОНЧИЛСЯ
ГЛАВА 1
Бо-м! Бо-м! Бом-м-м! – тревожно гудит пожарный колокол на Базарной площади украинского города Ромны. Но огня нигде не видно. Это разного рода агитаторы взяли привычку так созывать народ на сходки и митинги. А так как эти сходки-митинги идут с утра до позднего вечера, то колокол гудит целый день, не давая покоя жителям соседних улиц. Ораторы – свои (местная власть и партийцы) и приезжие. Все устали от их пустых разговоров и «собачьей брехни». Обещают мира, а мира нет. Обещают землю, а земля по-прежнему господская. Обещают хорошую, сытую жизнь, а цены в лавках и на базаре поднимаются, как на дрожжах. И это в начале лета! Что же тогда будет дальше?
Вот только Гришку Устимовича по прозвищу «Медный» (была у него огненно-рыжая шевелюра) народ слушает охотно. Еще недавно служил Гришка приказчиком в галантерейной лавке Сидора Парфеновича Лошака, угодливо сгибал спину перед покупателями, терпя от хозяина побои и унижение. С войны вернулся без левой руки, зато с тремя Георгиями, дослужившись до прапорщика и вволю поиздевавшись над солдатами своего взвода, как когда-то над ним самим издевался галантерейщик Лошак. Злоба и ненависть навсегда застыли в его зеленых, кошачьих глазах. Был он напористым, энергичным, рвался к власти, присматриваясь, к какой партии в городе примкнуть.
Тут в Киеве появилась Центральная Рада, возглавившая национальное движение на Украине. Стал Гришка «щiрым украинцем», объявив себя представителем Рады в Ромнах. Однако ему самому больше нравились идеи националистов о самостийности Украины и отделении ее от России, которую он сильно ненавидел. Его речи на эту тему очень нравились митингующим, ибо бывший приказчик научился вкладывать в них самые их заветные мечты: об окончании надоевшей всем войны.
– Нам, украинцам, на фронте делать нечего, – говорил он, обводя пронзительным взглядом толпу, состоявшую в основном из солдат: бывших раненых и дезертиров (последние убегали с фронта целыми частями, и путь их лежал через Украину). – Пусть там москали воюют. А мы от этих москалей будем защищать свою «рiдну матку». Хватит нам терпеть великороссов. Мы – украинцы, а не кацапы-москали.
– Хотите получить панскую землю даром, требуйте, чтобы Украина отделилась от России и стала суверенным государством! – также горячо призывал он земляков, нажимая на вторую больную мозоль солдата-крестьянина, мечтавшего получить землю и заняться, наконец, мирным трудом.
– Каким, каким? – переспрашивали друг друга солдаты, услышав незнакомое слово.
– Суеверным, – отвечал им кто-то со знанием дела, – без России, но с Богом.
– С Богом уже были, а земли не видели.
И так каждый день.
… Бо-м! Б-ом! Б-о-м-м! – опять с утра упорно и настойчиво гудит колокол. Его звуки заставили учителя математики Николая Ильича Даниленко прервать занятия с учениками шестого класса в реальном училище. Обрадованные неожиданным отдыхом, ребята бросились к окнам, выходившим на Базарную площадь.
– Какие-то приезжие, – сказал один из учеников Мирон Приходько. – Объявление вешают. Николай Ильич, можно я сбегаю, посмотрю? Все равно заниматься не дадут, будут кричать.
– Идите, Мирон, но долго не задерживайтесь. Напротив нас есть свободный кабинет, перейдем туда.
Не дослушав его, Мирон исчез за дверью. Николай подошел к окну. Колокол все еще надрывно гудел, площадь быстро заполнялась народом. Около трибуны, сколоченной из досок, стояла группа незнакомых людей, одетых то ли под крестьян, то ли под рабочих: в простых портках, заправленных в хромовые сапоги, серых пиджаках, матерчатых картузах. Только у одного – маленького, коренастого, очень подвижного, на лоб надвинута белая папаха. В такую-то жару. Что за депутация?
Вернулся Мирон и без всякого энтузиазма доложил.
– Анархисты из Гуляй-поля. Будут балакать о революции. Опоздали, нам о ней уже все известно.
– О революции, Мирон, нельзя все знать, – мягко возразил ему Николай. – Она непредсказуема. Вы думаете, ее судьбу решают те, кто сидит в Петрограде: Временное правительство или Петроградский совет депутатов? Нет. Вот эти люди, которые к нам каждый день наезжают и мутят народ. Керенские, Церетели, Черновы далеко, а проповедники рядом. Им люди больше верят, чем чужим дядям.
– А вы сами, Николай Ильич, кому верите: Совету депутатов или Временному правительству?
– Ни тому, ни другому.
– И Раде?
– Ей особенно. Какие-то самозванцы, вроде нашего Устимовича, объявили себя властью и навязывают народу шовинистические идеи.
– Батя говорит, что они подкуплены австрийцами и по их указке ведут украинскую агитацию, – заявил Александр Цыбулько, у которого отец, украинский эсер, входил в уездный Совет рабочих и солдатских депутатов.
– Ваши Советы тоже никто не знает. Кто они такие? – поддел его Мирон, рассчитывая поиздеваться над товарищем.
– Как кто? Представители народа.
– Знаем мы этих представителей. Жили за границей, продались там немцам и вместе с Лениным спокойно проехали через Германию, их никто не арестовал.
– Известное дело, немцы заслали Ленина как своего шпиона, дали ему много денег.
– Мой батя к Ленину не имеет никакого отношения и за границей никогда не был. У эсеров своя программа.
– А я хочу податься к Павловцу в «Вольное казачество», – неожиданно заявил Семен Грач, веснушчатый парень с курносым носом, сын известного богатого помещика и коннозаводчика Арсения Петровича Грача, – не поступлю в университет, как того хочет батя, стану вольным казаком. На кой лях сдалась мне эта учеба. Пойду бить москалей и все эти Советы.
– А Советы тут причем? – возмутился Цыбулько, с грозным видом наступая на Грача. – Я же говорю вам, что они думают о народе, хотят установить для рабочих восьмичасовой рабочий день, отменить штрафы.
– Нашли, о ком проявлять заботу. Они знают этот народ, разговаривали хоть раз в жизни с этими рабочими: бездельниками и пьяницами?
– Вам с папашей кони дороже людей…
Еще немного и вспыхнула бы потасовка. Николай приказал ребятам собрать учебники и перейти в кабинет напротив, но и туда через закрытые окна доносились голоса агитаторов и крики возбужденной толпы. Внимание учеников рассеялось. Николай не стал объяснять им уже начатую новую тему и предложил самостоятельно решить несколько задач.
После урока он зашел к директору училища Горбылю. Алексей Власович, как всегда, был чем-то озабочен: новые власти постоянно присылали в училище приказы, заведомо невыполнимые. Взяв со стола листок бумаги с трезубцем в углу (знаком Святого Владимира), ставшим символом нынешней киевской власти, он потряс им в воздухе.
– Вот, Николай Ильич, полюбуйтесь. Рада настоятельно требует, чтобы «обучение в школах на Украине, от низшей до высшей, происходило с осени текущего года на украинском языке с обеспечением прав меньшинства». О чем только эти господа думают? Хотят загубить весь учебный процесс.
Николай с грустью смотрел на расстроенное лицо директора. Он сам не понимал, что происходит на его родине, откуда взялись такой оголтелый национализм и ненависть к России и всему русскому. Исторически здесь всегда ненавидели поляков и евреев, особенно последних, поэтому в народе получили широкую поддержку черносотенные организации во главе с «Союзом русского народа». Но и они уже не пользуются особой популярностью. Михаил писал из Киева, что его тесть Петр Григорьевич Рекашев и его брат Сергей Григорьевич, бывшие реакционеры и апологеты самодержавия, вышли из всех монархических партий и поддерживают Раду.
А Рада? Несмотря на протесты Временного правительства, провозгласила национально-территориальную автономию Украины в составе России и создала свое собственное правительство – Генеральный секретариат.
– Рада слишком самоуверенна, – сказал он. – Вопрос еще в том, все ли родители захотят, чтобы их дети изучали украинский язык и учились в украинской школе. Пока мы все говорим и мыслим на русском языке, и образование у нас построено на русской школе и русской культуре.
– Не вовремя Рада все это затеяла. Страна разваливается, а им украинский язык подавай, – покачал головой Горбыль.
– Так легче отвлечь внимание людей от других проблем. Группа политиканов захватила власть в свои руки и навязывает народу шовинистические идеи, не спросив у этого народа, хочет ли он отделиться от России и сделать украинский язык государственным. Нельзя в один миг разрушить то, что создавалось веками.
– Николай Ильич, вы говорите, как агитатор на митинге. Я бы хотел уберечь ребят от политики. Такие речи вредно действуют на их неокрепшие умы.
– Они не слепые: сами видят, что происходит вокруг. Сын коннозаводчика Грача Семен настроился идти в казаки к Павловцу, бить москалей. Вы бы видели его лицо при этом. Растет поколение детей, изуродованных войной и революцией.
– Вы говорите страшные вещи.
– Увы! Таковы реалии нашей жизни.
– Грушевского я хорошо знаю, – задумчиво произнес Горбыль, поглаживая свою эспаньолку и устремляя взгляд в окно на купола Святодуховского собора. – Мы с его братом Александром учились на одном курсе в киевском университете. На всех нас сильное влияние оказывал историк Владимир Бонифатьевич Антонович, отец помощника Грушевского Дмитрия Антоновича. Этот польский шляхтич в то время люто ненавидел царизм за отношение к Польше и подавление польских восстаний. Потом со шляхтой порвал и переключился на украинское национальное движение. Его мысли о самостийности Украины и отделении ее от ненавистной ему России одурманили головы многим студентам. Последние годы Грушевский сам активно пропагандировал эти идеи, был обвинен в австрофильстве и сослан в Симбирск. Не удивительно, что, как только Россия утратила свой авторитет, он стал у нас идеологом национально-освободительного движения.
– Рада выражает свое мнение, а не народа. Если бы этого захотело все население Украины: и украинцы, и проживающие другие национальности, а русских у нас все-таки, согласитесь, немало, тогда другое дело. Я люблю свою родину, но это не значит, что я должен стать националистом и люто возненавидеть русских и Россию, от которой себя тоже не могу отделить. В истории Украины были самые разные страницы, и если сейчас начать их ворошить, то можно наломать много дров.
– Как историк, – печально изрек Алексей Власович, – скажу вам так: любая революция не заканчивается одним потрясением, нас ждут тяжелые времена.
Митинг еще продолжался, когда Николай вышел на площадь. Выступал приезжий из Гуляй-поля – маленький, в белой папахе. Его лицо и голос показались ему знакомыми. Не тот ли это анархист, что сидел вместе с ним в екатеринославской тюрьме в 1908 году? Кажется, Нестор Махно. Тот тоже был из Гуляй-Поля. «И чего его занесло в наши края?» – удивился он и, чтобы удостовериться в своей догадке, спросил фамилию агитатора у стоявшего рядом рабочего в засаленной железнодорожной фуражке.
– Тише ты, – недовольно отмахнулся тот, – дай послухать. Человек дело говорит.
– Я спрашиваю, как его фамилия?
– Да разве всех упомнишь? Кажись, Махно. Вот пристал, из-за тебя все пропустил.
Николай оставил рабочего в покое и стал слушать оратора, говорившего сложно и витиевато.
– Перед крестьянством, как и перед рабочими, стоят серьезные вопросы. Они должны готовиться к переходу всех земель, фабрик и заводов в общественное достояние как основы, на началах которой трудящиеся должны строить свою жизнь. Для этого мы создали у себя в Гуляй-поле Крестьянский союз, который готовит крестьян к всестороннему пониманию сущности отнятия всех земель от помещиков, монастырей и государства и провозглашению их общественным достоянием…
Без сомнения это был Махно. Николай решил подойти к нему после митинга, но тот не спешил заканчивать свое выступление, подробно рассказывая о деятельности своего Союза, и люди его внимательно слушали. Еще бы! Махно и его Крестьянский союз хотят отнять у помещиков землю и передать ее крестьянам без всякого выкупа.
Тут на трибуне появился человек в офицерской форме и, грубо выговаривая что-то оратору, пытался столкнуть его вниз. На помощь Нестору бросились его товарищи. Один из них вытащил пистолет и выстрелил офицеру под ноги. Тот тоже выхватил пистолет и направил его на Махно. Сообразив, что развязывать драку на глазах у публики не в его интересах, Нестор приказал товарищам спуститься вниз, а сам продолжал стоять на трибуне, бесстрашно смотря на направленное ему в лицо дуло пистолета.
– А это, что за вояка? – спросил Николай у рабочего.
– Откуда ты свалился? Это же Степан Тимофеевич Костюк, комиссар нашего Общественного комитета (органы Временного правительства на местах).
Приглядевшись внимательней, Николай узнал в нем своего соседа с Новолозовской улицы, бывшего теперь мужем Ганны Омельченко. Он его мельком видел в свой первый приезд из-за границы. Тот на фронте был ранен в ногу, ходил тогда с палкой и гордо выпячивал грудь, демонстрируя свои боевые награды: четыре Георгия и орден Св. Анны 4-й степени. Они и сейчас висели у него на френче. Такие награды давали за личную храбрость и мужество, которые совсем со Степкой не вязались. В детстве он отличался хитростью, жульничал во всех играх, за что ему часто доставалось от товарищей. Учиться не хотел, работал вместе с отцом (дебоширом и пьяницей, умершим потом от белой горячки) грузчиком на мануфактурной фабрике Семикоза, и вот, на тебе, вроде Устимовича, дослужился до прапорщика и занимает теперь в городе высокий пост. Многое же здесь изменилось, пока Николай жил за границей.
– Товарищи, – громко и уверенно произнес Костюк. И этот стал заправским оратором. – Выступавший здесь только что агитатор – анархист и, как все анархисты, хочет допустить в стране хаос. Мы хорошо помним, как они до революции занимались грабежами и террором, теперь призывают народ в свой Крестьянский союз, чтобы учинить расправу над помещиками. Нет! Теперь мы будем решать все с помощью народа и его законов. Для этого и созывается Учредительное собрание, в которое войдут представители всех партий, сословий и простых людей.
– Хватит нас баснями кормить, – закричали из толпы солдаты, сопровождая свои слова крепкими ругательствами, – скажи лучше, когда Временное правительство будет замиряться с германцами.
– Этот вопрос и решит в первую очередь Учредительное собрание.
– До собрания еще далеко, а нам скоро жрать будет нечего.
– Землю, землю, когда крестьянам дадите? – надрывалась толпа.
Не выдержав, Махно вышел вперед и поднял руку, призывая к тишине.
– Товарищи! Комиссар Общественного комитета гутарил, что в Учредительное собрание войдут представители от всех партий, сословий и простых людей, то есть это будет картежная игра всех политических партий. Спросите кого-либо из тех, кто посещал игорные притоны: выходили ли они оттуда не обманутыми? Никто. Трудящийся класс – крестьянство и рабочие, которые пошлют в них своих представителей, в результате будут обмануты. Народ сам должен решать, что ему делать и как жить, потому что только он тут и есть настоящий хозяин.
– Бей его, – неожиданно закричал Костюк, резко толкнув Нестора вниз, и сам спрыгнул за ним. Толпа пришла в движение. Раздались выстрелы, крики, свистки. Завязалась нешуточная драка.
Николай поспешил к трибуне, но, пока он пробирался через плотную толпу, борцов разняли. Люди Степана плотным кольцом окружили агитаторов. Руки у тех были связаны. Пистолеты и сабли лежали на земле. Махно грубо ругался, грозя убить своего обидчика и разнести к чертям собачьим весь его Общественный комитет. Не обращая на него внимания, Костюк, красный, как рак, с досадой рассматривал вырванный с мясом правый рукав френча.
Николай тронул его за плечо.
– Степа, я знаю Махно, отпусти этих людей под мою ответственность.
– Да ты сам зараз подозрительная личность, – злобно отозвался тот, оглядев Николая, – чи вражина, чи иностранный агент. Тебя самого надо арестовать.
– Будет ругаться. Приходи ко мне вечером домой, мы с тобой по-соседски выпьем и потолкуем. А с Махно мы вместе сидели в Екатеринославской тюрьме, он пострадал от царского режима.
– Нашел, чем хвастаться, – скривил губы Костюк, однако приказал развязать приезжим руки и отпустить их.
– Ты хто такой? – вместо благодарности грубо набросился на своего заступника Махно. – Что-то тебя не припомню…
– Где тебе припомнить, ты из карцера не вылезал?
– Но, но, осторожней, – угрожающе поднял кулак один из хлопцев Махно, надвигаясь на Николая.
– Остынь, Исидор, – сверкнул на того глазами Махно и уже более приветливо спросил. – Так ты кто будешь?
– Николай Даниленко.
– Большевик?
– Тогда был большевик, сейчас – анархист.
– Большой срок отсидел?
– Семь месяцев. Удалось сбежать за границу, недавно вернулся.
– Значит, интел-лигенц-ия, – презрительно протянул Махно. – Все статейки пописываете, дискутируете. Люди ждут от вас действий, а вы ничего конкретно предложить не можете.
– Ты думаешь, Крестьянский союз сможет без борьбы захватить землю? Тот же Костюк вкупе с Винниченко в лучшем случае отправят вас в тюрьму, в худшем – вздернут на виселице.
– Мы не такие дураки. Создадим свои вооруженные отряды. У каждого нынче дома припрятаны винтовка, пулемет и пара гранат. Надо будет, достанем и пушки. Мы и сюда за тем приехали, чтобы люди, наконец, поняли: пора самим брать все, что им по праву принадлежит. Только действовать не в одиночку, а всем гуртом.
– Насчет пассивности интеллигенции ты не прав. Сейчас повсюду организуются анархистские группы и федерации. Меня товарищи усиленно зовут в Харьков, но я пока остаюсь здесь из-за семьи, жена беременна.
– Я тебе вот что скажу, дорогой товарищ. Я сам в былые годы был боевиком, от этого не отказываюсь. Что было, то было. Теперь понимаю, в этой тактике была и моя личная ошибка, и более опытных товарищей, которые не смогли вовремя разъяснить это мне и моим боевым друзьям. Пока мы бросали бомбы, большевики и другие партии готовились к революции, укрепляли свои силы, а мы их распыляли. Я девять лет провел на каторге и, выйдя на волю, опять вижу наше дорогое движение раздробленным. Анархистам надо срочно объединяться. Нельзя все время наступать на одни и те же грабли.
Махно говорил с таким воодушевлением, как будто продолжал стоять на трибуне, и его слушала огромная толпа. Николай радовался: этот бывший каторжник высказывает заветные мысли его самого о целенаправленной, продуманной работе анархистов.
– Да. Нам надо срочно объединяться, иначе мы проиграем революцию, – повторил Нестор, и как-то сразу сник, как будто только сейчас осознал, что зря расходует свой ораторский пыл на одного человека. – Так и отпиши товарищам в Харьков. Пусть к нам приедут, с народом побалакают… Очень хотелось бы видеть Рогдаева и Рощина. Слыхал о таких?
– Конечно, слышал. С Рогдаевым мы были близкими друзьями. Он, наверное, еще не вернулся из-за границы…
К ним подошел уже знакомый Николаю товарищ Махно – Исидор.
– Нестор, пора идти. Наш поезд подходит.
– Поговорили и лады, – заторопился Нестор, протягивая Николаю руку. – Прощевай, дорогой товарищ.
Пройдя несколько шагов, он резко обернулся назад.
– Я не могу ручаться за Россию, – прокричал он, сверкая своими острыми, черными глазами, – но здесь, на Украине народ мне верит, мы добьемся своего: земля безвозмездно перейдет к крестьянам, и очень скоро. Не сомневайся.
Николай усмехнулся: от кого-кого, а от Махно он такой прыти не ожидал. Считал его таким же бандитом, как Кныш и рыжий Тимоха, видевших суть анархизма в грабежах и убийствах. А теперь вон как круто взялся за дело и мыслит политически зрело.
Уходя с площади, Николай поднял валявшееся на земле объявление, которое бегал смотреть Мирон. Под фамилией «докладчика» Нестора Махно стоял длинный список его «титулов»: член Гуляй-польского Общественного комитета, председатель Гуляй-польского Совета крестьян и рабочих, председатель районного Крестьянского союза, Земельного комитета, Профессионального союза металлистов и деревообделочников. Высоко же взлетел бывший террорист!
К обеду мама просила купить ржаного хлеба. Николай обошел несколько лавок на ближайших к училищу улицах. Хлеба – ни белого, ни ржаного, нигде не было, везде стояли длинные очереди уставших от ожидания и неизвестности людей. Это была еще одна примета нового времени: очереди за хлебом, которого на Украине всегда было в изобилии, а многие хозяйки и вовсе предпочитали печь его сами. Теперь же трудно достать не только муку, но даже такие мелкие, но необходимые в кулинарии вещи, как сода, дрожжи, лимонная кислота, не говоря уже о разных специях. Без них не испечешь хлеб, не сделаешь пампушки с чесноком к борщу, которыми так любят баловать домочадцев Елена Ивановна и Марфа. Пройдясь еще по нескольким местам, Николай отправился на базар.
Много перемен произошло в Ромнах с тех пор, как он бежал за границу, но больше всего изменился базар. В былые времена жизнь здесь начинала бурлить с рассветом. Около ворот выстраивались длинные обозы с товаром. Приехавшие из дальних и ближних сёл, крестьяне таскали к прилавкам живых поросят, гусей, уток, кроликов, огромные туши мяса, мешки с мукой, зерном и овощами. В другом месте разгружали товар купцы и мастеровые люди: ремесленники, кузнецы, гончары. Осенью в воздухе стоял сладкий аромат персиков, яблок, груш, золотистых дынь. Настоящий праздник души. И текла, текла между торговыми рядами бесконечная река покупателей.
У ворот на площади вертелись карусели, лоточники предлагали пироги со всякой всячиной, сладости, мороженое, разносчики воды назойливо приставали с прохладной водой и ледяным квасом, от которого сводило зубы и щипало в носу. Кряхтели, но пили и просили налить еще. К двум часам дня прилавки пустели. Довольные крестьяне и торговые люди разъезжались по домам или отправлялись выпить кружку-другую пива в соседнюю корчму Юзефа Ясиновского.
Они сами тут, будучи детьми, продавали с Марфой фрукты и ягоды, освоив нехитрую науку под названием «купля – продажа». На ура всегда шли крупная черная черешня и груши «Бартлет». Их раскупали ведрами. Остальные, менее ходовые сорта приходилось терпеливо расхваливать, объясняя, что одни из них идут на варенье, другие – на компоты и повидло, третьи – на сушку и зимнее хранение. Марфа это делала мастерски. И сколько для всех было радости, когда пятаки, а иной раз и серебряные рубли из рук покупателей переходили в ее широкую ладонь.
Праздник души кончился. Базар уже не радует своим изобилием, зато цены на нем растут не по дням, а по часам. Мужики в вышиванках и суконных шароварах, бабы в ярких цветастых юбках и расшитых рубахах стали здесь нынче монополистами. Твердой валютой считаются «царские деньги», но особым спросом пользуются дорогие вещи и украшения на обмен, когда за одну курицу или мешок картошки можно получить золотые серьги или лисий воротник.
От невиданного досель добра, плывущего в руки почти даром, у селян разбегаются глаза. И говорят: это только начало. Пока на базар ходят свои роменчане и бегущие от пожаров и разбоев украинские помещики и сахарозаводчики. Скоро повалят сюда господа из Питера и Москвы. Вот у кого тогда можно будет поживиться. И крестьяне придерживают для них оставшуюся в клунях и хлевах муку и живность.
В кармане у Николая лежали две ложки из чайного серебра Фальков. Однако нынешний день выдался неудачный. Несколько раз он обошел ряды, где стояли крестьянки с буханками ароматного ржаного хлеба, но серебряные ложки никого не прельстили. Не обратили на них внимания и продавцы муки. Теперь муку продавали не мешками, а в кульках из газет.
Время близилось к пяти часам, а солнце все еще нещадно палило. Николай был в пиджаке, белой рубашке и галстуке. Пот ручьем стекал по лицу за воротник рубашки. Без всякой надежды произвести выгодный обмен, бродил он между прилавками, с тоской вглядываясь в лица продавцов, научившихся брать покупателя «измором»: чем больше его мучить, тем он становился податливей.
– Мил-человек, – неожиданно окликнул его мужик, торговавший листовым железом и гвоздями (по нынешним временам большой дефицит), – что ты ищешь?
– Ржаной хлеб.
– Идем, отведу тебя к своей бабе. У нас сын женится. Такие ложки к свадьбе – самый лучший подарок. Только, сам знаешь, баба есть баба, у нее свое на уме.
Боевая, разбитная крестьянка даже не взглянула на ложки, а положила глаз на пиджак и рубашку Николая.
– Сымай пиджак и рубашку, – приказала она, щупая тут и там материал быстрыми, проворными пальцами.
– Куда ж я без рубашки, а пиджак согласен, – не растерялся Николай, попросив за него четыре буханки: пиджак был из Парижа, далеко не новый, но имел еще приличный вид.
– Две буханки, и галстук в придачу.
– Нет, тетушка, так не пойдет. Четыре буханки и точка.
– Четыре буханки, галстук и запонки.
– Пять буханок и галстук.
– Четыре буханки, галстук и запонки, – твердила упрямая жинка.
– Запонки не могу, подарок жены, – соврал Николай. Запонки были дешевые, но ему жаль было отдавать столько вещей этой алчной крестьянке. И буханки ему казались меньше весом, чем обычно, и на вид они были из муки далеко не первого сорта. Крестьяне теперь тоже научились дурачить головы горожанам, кладя в тесто свекольный жмых и семечковый шрот.
– Так и быть, уговорил, пять буханок, – наконец, согласилась та, – и то только потому, что сын женится. С войны вернулся, а одежды приличной нет.
– Зачем же ему городская одежда?
– Так невеста у него из Орла, медсестричка. В госпитале выхаживала. После свадьбы поедут к ней, как будто своей хаты нема, – без всякой радости сообщила женщина.
Вручив ей пиджак и галстук, Николай забрал свои буханки и, не сообразив, тут же при ней предложил мужику свои ложки за железо и гвозди – мама давно просила починить крышу.
– С удовольствием возьму, – согласился тот. – Одну ложку – сыну, другую – невестке. Будет мой личный подарок.
– Да за такое железо надо четыре, а то и шесть ложек брать, – закричала неугомонная жинка.
– Тетушка, – опять вступил в роль завзятого покупателя Николай, – ложки-то дорогие, из серебра высшей пробы….
– Пойдем, сами договоримся, – взял его за руку мужик.
– Богдан, меньше, чем на шесть ложек не соглашайся, – кричала вдогонку жена. – Я проверю.
– Тю, баба ненасытная, – без всякой злобы на свою дражайшую половину проворчал супруг, – все ей мало. Ведь это – серебро, а не солома.
– Тогда давай до завтра, – сказал Николай, поняв, что под таким нажимом сделка вряд ли состоится.
– Если найдется покупатель, ждать не буду. Листы-то новые, таких нигде больше не сыщешь.
– Ты вот что, Богдан, привози завтра все это ко мне домой на Новолозовскую улицу в самый крайний дом. Там обо всем и договоримся. И гвоздей захвати разных. Ложек у меня больше нет, но для ваших молодоженов подберем что-нибудь другое.
Возвращаясь обратно через Базарную площадь, Николай снова застал митинг. На трибуне стоял «щiрый украинец» Гришка Устимович и разговаривал с толпой все на те же болезненные темы о войне и земле.
– Наши солдаты по-прежнему проливают свою кровь, а буржуазный ставленник Керенский призывает продолжать войну. Нужна ли нам, потомкам вольных казаков, эта преступная война?
– Нет, не нужна!
– Нужны ли нам немецкие и австрийские земли?
– Не нужны, у нас своей довольно!
– Хотите проливать кровь за интересы России и ее буржуев?
– Не хотим! Они войну начали, пусть сами ее и продолжают.
– Но, но, осторожней, – раздался чей-то возмущенный голос. – Мы с москалями в одном окопе сидели, одних вшей кормили, а теперь им под зад ногой?
– Не нравится, так отправляйся к москалям в окопы, а мы уже отвоевались.
– А даст ли вам продажное российское правительство землю? – продолжал Устимович.
– Нет, не даст, – мычала и стонала толпа, увлеченная игрой в вопросы и ответы.
– Геть кацапiв з нашоi землi! – рявкнул борец за независимость Украины.
И толпа радостно завопила:
– Хочемо самостiинy Украiну.
Николай не стал больше его слушать; протиснувшись через толпу, выбрался на Соборную улицу и направился на свою окраину.
ГЛАВА 2
Дома его ждало очередное письмо от старого женевского друга Евгения Федоровича Гаранькина. После революции он и Виктор Гребнев переехали из Москвы в Харьков, организовали там федерацию анархистов и уговаривали Николая приехать к ним с семьей и выпускать анархистскую газету. Теперь Гаранькин сообщал, что они задумали провести конференцию всех анархистских групп Юга России. «Конференция станет первым этапом к объединению всех анархистов, – писал Евгений Федорович, – если все у нас получится, поставим вопрос о созыве Всероссийского съезда в Москве или Петрограде. Все основные силы сосредоточились в центральных городах, а они сейчас особенно нужны здесь, на Украине, так как народ находится между трех стульев и не знает, кого слушать. В Харькове много крупных заводов. Кто как ни ты, хорошо знает проблемы производства и рабочую среду? Прошу тебя, приезжайте сюда с Лизой и дочкой, мы вам создадим все условия для жизни. Лиза будет довольна».
Наконец-то Евгений Федорович и многие вернувшиеся из-за границы анархисты осознали, что надо менять тактику работы: объединяться, активно работать с массами. Об этом же, кстати, говорил и Махно.
Спрятав письмо в ящик письменного стола, он вышел на крыльцо покурить. Мама и Лиза расставляли на столе в беседке посуду для обеда. Лиза была на четвертом месяце беременности, легко ее переносила и помогала Елене Ивановне и Марфе по хозяйству в доме и саду. Увидев мужа, она крикнула, что можно уже садиться за стол. Николай помахал ей рукой, продолжая оставаться на месте и курить.
Письмо Гаранькина испортило ему настроение. Привезя семью в Ромны и узнав, что Лиза беременна, он обещал жене оставаться здесь до родов, поэтому и устроился работать учителем в реальное училище. Но тут стали приходить письма от товарищей из разных городов, чтобы он приезжал к ним работать, и Лиза хотела обязательно ехать с ним. Вышли из тюрьмы Ольга Таратута и Ита Либерман, вернулась в Россию Маруся Нефедова. Лизе не терпелось их всех увидеть. Николай считал, что до родов и первое время после них она с детьми должна оставаться в Ромнах: здесь были сад и огород. Здесь были мама и Марфа, которые помогут Лизе с детьми. My home is my castle, как говорят англичане.
Ему хотелось в Харьков, чтобы самому во всем разобраться, понять, что происходит на Украине, как далеко зашли шовинистические настроения в других ее местах. Интересно побывать и на предприятиях, поговорить с рабочими, рассмотреть поближе рабочие комитеты и рабочий контроль, о которых сейчас много говорят и анархисты, и большевики. И потом неясно, как теперь на Украине совмещать революционную борьбу с политикой ее новой власти.
Подавив досаду на то, что ему придется еще долго оставаться в Ромнах, Николай вошел в беседку, весело улыбаясь и целуя по очереди всех своих женщин, а их вместе с Лизой было пять человек: мама, Марфа, Олеся и маленькая Вера.
Обед по нынешним временам выглядел роскошным: с мясным борщом, котлетами из свинины, отварным картофелем и свежим ржаным хлебом. Свинина была из запасов, хранившихся в погребе-леднике с ноября прошлого года, когда на поминки отца закололи последнюю свинью и трех поросят. Тогда же продали корову и овец (на эти деньги, учитывая неспокойную обстановку в городе, поставили новый забор).
Для Лизы, Верочки и Олеси Елена Ивановна делала сок из ягод, для остальных ставила бутылку с домашним вином, того самого, от которого голова остается светлой, а в ногах появляется тяжесть, и они прирастают к полу.
– Что нового в городе, Колюшка? – спросила Елена Ивановна, чувствуя сердцем, что сына что-то мучает.
– Идут сплошные митинги, кричат о национальной идее. Рада всерьез взялась за украинизацию школ, рекомендует директорам вести занятия на украинском языке. Горбыль в панике. Удивительно, откуда вдруг появилась такая ненависть ко всему русскому? Понятно там, интеллигенция. Алексей Власович рассказывал мне о Грушевском и его брате, на которых еще в университете сильное влияние оказал преподаватель истории, бывший польский шляхтич Антонович, отец Дмитрия Антоновича. Но простой народ!? Сегодня на площади Устимович настраивал толпу против Временного правительства, и она дружно ревела: «Геть кацапiв з нашоi землi!»
– Всему виной война и революция, – вздохнула мама, выписывавшая по старой привычке киевские и петербургские газеты. – Солдаты не хотят больше воевать, ругают Временное правительство. Для людей это правительство и Россия – одно и то же. И украинские партии делают свое дело. Агитаторов у нас всегда хватало.
– Народ мутят люди Шептицкого, – сказала Марфа, никогда не интересовавшаяся политикой, а теперь бывшая в курсе всех событий, – уговаривают переходить в униатство.
– Все это мы проходили лет 300 назад, когда католическое духовенство пыталось нас насильно ополячить и окатоличить.
– Сейчас им нужно разделить нас с русским народом и русской Церковью. Отец Никодим тоже жаловался, что от него требуют совершать богослужение на украинском языке.
– Люди ждут социальных перемен, – сказал Николай, – хотят получить без выкупа землю, а что может дать им кабинетный ученый Грушевский, не имеющий опыта практической работы? Кстати, Лиза, тебе будет интересно. Сегодня на митинге выступали анархисты из Гуляй-поля. С одним из них, Нестором Махно я сидел вместе в одной камере в Екатеринославе. За убийства он потом отбывал каторгу. Теперь, кажется, взялся за ум, распространяет анархистские идеи, организовал в своем родном селе Крестьянский союз. Надеется, что с помощью этого Союза крестьяне отберут у помещиков землю. Его чуть не побили люди Костюка.
– Степан сильно изменился, – покачала головой Елена Ивановна, – стал жадный до чужого добра. На днях привез откуда-то диваны и кресла в шелковой драпировке, богатые ковры, китайские вазы. Ставить некуда, а он все тащит и тащит. Хочет у купца Пшеницына дом отобрать… Неужели, сынок, на него нельзя найти управу?
– Кому до этого есть дело, мама? От нынешней народной милиции толку мало. Я не видел на улице ни одного милиционера, а городовых и подавно.
– Газеты пишут, что в Питере бывших городовых и жандармов убивают, – заметила Лиза. – Они боятся выходить на улицу.
– Что ты, Лизонька, говоришь? – испуганно воскликнула мама. – Роменчане до этого не дойдут, да и Господь не допустит. Хватит уже крови.
Елена Ивановна и Марфа стали собирать посуду. Лиза тоже поднялась, но Елена Ивановна ее остановила.
– Сиди, сиди, доченька, мы сами справимся. Сейчас поспеет самовар, будем пить чай с вареньем.
– Папа, пойдем, соберем к чаю вишню, – Вера взяла за руку Николая, чтобы идти в сад.
– А мама пойдет с нами? – Николай лукаво посмотрел на жену.
Лиза покачала головой.
– Там уже ничего не осталось. Утром Марфа и Олеся все собрали.
– Что-нибудь, да найдется. Мы еще соберем и черешню. Верочка, бери свою самую большую корзинку. Я тебе покажу тайные места, о них больше никто не должен знать. Договорились?
– Договорились. И даже мама? – таинственно спросила девочка, когда они отошли от беседки.
– Маме можно.
– А бабушкам?
– И бабушкам.
– А Олесе?
– И Олесе можно, но это уже будет всем известно. А мы с тобой хотели иметь свою тайну.
– Тогда я никому не скажу, одной маме…
Лиза с улыбкой смотрела им в след, но как только они скрылись за деревьями, лицо ее стало серьезным, она задумалась. Два месяца они жили в Ромнах, и все это время она была счастлива как никогда. Но вот в эту тихую, размеренную жизнь вторглись письма товарищей-анархистов, звавших Николая к себе. Лиза прекрасно понимала его состояние и не раз уже хотела уступить ему и сказать, чтобы он ехал в Харьков один, но в ней еще жило чувство страха потерять его, то, что она испытывала в Нью-Йорке. Или это была та самая гордыня, о которой ей говорила мама? Желание, чтобы все было так, как она хочет, полностью подчинить себе мужа.
Мужчина и женщина – разные существа. То, что сначала устраивает обоих, мужчине может вскоре надоесть даже, если он очень любит женщину. Ему нужны друзья, мужское общество, разговоры, активная деятельность. Умная женщина должна это понимать, идти ему навстречу. В Женеве она не захотела с этим мириться, сбежала от него в Нью-Йорк и сама за это поплатилась. Сейчас сложилась похожая ситуация. Правда, теперь никто ни от кого не сбежит, но оба внутри будут страдать, если уже не страдают. «Коля должен ехать в Харьков», – решила Лиза и грустно вздохнула: ей так не хотелось снова расставаться.
Вспомнился первый день его приезда в Нью-Йорк. Наступила уже глубокая ночь, а они все разговаривали и разговаривали за столом, не зная, что делать дальше, как приступить к той заветной минуте: оказаться в объятьях друг друга, которая для обоих была желанной, но отодвигалась из-за какой-то непреодолимой преграды, возникшей между ними. Наконец, взглянув на часы, Николай сказал: «Пора спать», снял пиджак, аккуратно повесил его на стул и взялся за галстук, делая все медленно, как будто до конца не был уверен в своих действиях. Лиза поднялась и направилась к двери. «Постой, ты куда? – он догнал ее и взял в ладони ее лицо. – Ты отвыкла от меня или, может быть, не хочешь?» «Не знаю, н-нет», – прошептала она, невольно поддаваясь под его взглядом вперед и прижимаясь к его рубашке, под которой громко стучало сердце. Так же сильно оно стучало и у нее, готовое вот-вот выпрыгнуть наружу.
Сколько раз она мечтала об этой минуте, представляя, как они будут смотреть друг на друга, что скажут, как она сама обнимет его и будет целовать, как они проведут эту свою первую ночь после долгой разлуки, и вот они стоят в растерянности и тянут, тянут, тянут время. «Хорошо, сделаем так, – решительно сказал он, – я гашу свет, а ты раздевайся».
Все казалось ужасно глупым, непонятным, смешным. Лиза быстро разделась и юркнула под одеяло. Ее охватила дрожь: знакомое чувство желания его – единственного на свете любимого мужчины. Николай еще походил по комнате, давая время ей успокоиться, отодвинул к окну стул с одеждой, поставил под диван ботинки (диван был новый, специально купленный к его приезду), – каждый звук его шагов и движений отдавался в ее голове как удары метронома в пустом концертном зале.
Она не помнила, как он осторожно лег рядом с ней, как его руки скользнули по ее ногам, животу, застыли на груди, и все куда-то поплыло, растворилось в охватившем их порыве страсти. Николай первый уснул, а она, стыдно сказать, до утра не сомкнула глаз, боясь, что проснется, а его нет, и его приезд в Нью-Йорк оказался лишь прекрасным сном.
Позже Лиза поняла, что за преграда стояла между ними: Николай изменился. Это уже был не тот студент, которого она встретила на митинге в Екатеринославе, и даже не тот молодой человек в Женеве, удививший всех своими литературными произведениями. Перед ней предстал зрелый мужчина, суровый, сдержанный, как будто он опередил ее по возрасту на много лет вперед. Так, наверное, повлияла на всех людей война, даже на тех, кто не был на фронте, но был к нему причастен. А он успел рассказать ей о своем заводе в Париже, военном атташе Игнатьеве, «фабриканте смерти» Шнейдере, управляющем Дэвисе и русских ребятах, поднявших бунт в Иностранном легионе и расстрелянных по решению военно-полевого суда Франции.
… Из сада вернулись Николай и Вера. Девочка с испачканным бордовым соком лицом сидела у него на плечах, держа в руках полную корзину с крупной черешней.
– Смотри, мама, сколько мы собрали твоей любимой черешни, – захлебывалась она от восторга. – Там ее много. Завтра мы наберем еще. Папа знает, где ее искать.
Николай спустил ее на землю, и она побежала к бабушкам хвастаться своим богатством. На глазах у Лизы выступили слезы. До чего ж она их обоих любит: мужа и эту забавную, маленькую девочку!
– Что ж это у тебя за тайное место? – спросила она ласково, наклоняя голову Николая и вынимая из волос застрявшие там листья и веточки.
– На самом верху дерева, куда не добраться с лестницы. Мы мальчишками всегда туда лазили.
– И ты туда полез?
– Что нам стоит! Есть еще порох в пороховницах, – улыбнулся он, и осторожно привлек ее к себе, чтобы не навредить ребенку, которого она носила.
После чая они остались одни в беседке.
– Что пишет Евгений Федорович? – спросила Лиза, не зная, как перейти к важному для них обоих разговору.
– Они задумали провести конференцию в Харькове, собрать все группы с Юга России.
– Коля, сколько часов ехать до Харькова?
– Восемь – десять, а что?
– Ты к нам сможешь изредка приезжать, если поедешь к Гаранькину?
– Я тебя не понимаю. Ты хочешь, чтобы я ехал работать в Харьков? А как же вы с Верочкой?
– Ты сейчас нужен в Харькове. Там твое место. А здесь мне с твоими родными очень хорошо. Марфа напоминает Зинаиду. Такая же добрая…
– Все младшие братья и Олеся выросли на ее руках, – улыбнулся Николай, не скрывая радости от того, что Лиза согласилась отпустить его. – Она и наших детей поднимет. С ней и мамой вы будете, как за каменой стеной, я могу уезжать со спокойной душой.
– Я люблю тебя и хочу, чтобы тебе было хорошо. А к моим родам ты приедешь в Ромны и останешься до самого конца. Обещаешь?
– Конечно, приеду на столько дней, сколько понадобится.
Договорились, что он уедет, доведя до конца учебный год в училище. От того, что, наконец, этот непростой для них вопрос был разрешен, им обоим стало легче. И спало напряжение, которое невольно чувствовали все в доме.
Вечером Николай долго сидел за столом (он устроил кабинет в кухне, своей семьей они жили в гостиной). В Ромнах он опять вернулся к литературному труду. Сначала восстанавливал записи украденного парижского дневника, одновременно делал наброски для будущей работы о войне: какой именно – исторического исследования или художественного произведения, он еще не определил, слишком много было впечатлений. Перемены на Украине заставили отложить эту работу и заняться осмыслением новых событий. Сейчас он записал в тетрадь весь разговор с Махно и стал готовить статью о нем и Крестьянском союзе для газеты, которую ему предстояло выпускать в Харькове.
Лиза время от времени подходила к нему, обнимала за плечи, предлагала сделать чай с вишней (настоящая заварка и кофе давно кончились). Он сажал ее на колени и осторожно прикладывал руку к животу, чтобы послушать движение ребенка. Это маленькое, еще не сформировавшееся до конца существо, уже все слышит и понимает. Оно должно знать, как родители его сильно любят и ждут.
– Мама говорит, что будет девочка, – улыбнулась Лиза, кладя свою ладонь на его руку. – Она еще крохотная, но скоро начнет себя активно вести. Тогда ее хорошо будет слышно.
Видя его оживленное, счастливое лицо, Лиза была рада, что приняла нелегкое для себя решение. Николай же думал о том, как круто за последнее время изменилась его жизнь, как она опять меняется, и как хорошо будет возвращаться домой после долгого отсутствия.
У него был такой душевный подъем, что, закончив статью о Махно, он достал свой критический разбор «Апрельских тезисов» Ленина, написанный им сразу по приезде в Ромны, и решил по нему подготовить статью. Эти тезисы его тогда поразили тем, что в них было большое сходство с идеями анархистов, за исключением того, что касалось Государства и Власти. Эта близость в оценках, понимании и предвидении событий представлялась ему достаточно опасной: Ленин провозглашал Страну советов, в которой главенствующая роль принадлежала большевикам. Все их прекрасные идеи о мире, земле и рабочем контроле на предприятиях будут неизбежно извращены, а народ окажется обманутым.
В доме все давно спали. Изредка он выходил на крыльцо, чтобы покурить и заодно прислушаться к звукам в саду: не забрались ли туда воры? Теперь их не останавливали ни сплошной забор, ни колючие заросли маклюры. Пришлось всю оставшуюся живность – козу, десять кроликов и столько же кур вместе с Петей-петушком, перевести из сарая в летнюю кухню, и по ночам там дежурить. Сегодня была очередь Марфы.
Первый раз он вышел, когда луна стояла высоко над садом, освещая своим особым в этот час лимонно-магическим светом деревья и виноградную аллею, давно заброшенную и заросшую травой. Без Гриши и папы ею никто не занимался. Было так тихо, что он слышал удары собственного сердца.
В четвертый или пятый раз он вышел на крыльцо под утро. Уже заметно посветлело, и слабый силуэт луны плавал в розоватой дымке. На нижней ступени сидела Сильва. Старая, полуслепая кошка поднялась к нему навстречу, потерлась головой о ноги и улеглась рядом. По-прежнему было тихо, но что-то, как это обычно бывает перед рассветом, изменилось в природе. Появилось больше звуков, новых красок и запахов.
У Омельченко прокричал самый голосистый во всей округе петух, тут же откликнулись другие певцы. Из летней кухни, не так громко, но с большим достоинством, как и полагается главе птичьего семейства, пропел их Петя-петушок.
Вдруг с той стороны, где занимался рассвет, взвился столб густого черного дыма. Пожар! Горело где-то далеко: за Сабуровским лесом, наверное, в самом имении Сабуровых. Тут и там залаяли собаки. Сильва испуганно вскочила и убежала в дом. Из летней кухни вышла Марфа, перекрестилась на горящее зарево и подтвердила, что горит у Сабуровых.
– Это все агитаторы, – сердито проворчала она, – берите землю, поджигайте помещичьи усадьбы. Дождались: подожгли. Детишки бы, детишки там не пострадали.
– А много там народу?
– Со старым барином и барыней человек двенадцать будет. Барыню в прошлом году парализовало, в кресле сидит.
По улице загрохотали телеги. Мужские и женские голоса громко понукали лошадей. Казалось, за воротами мчалась целая татарская орда.
– Куда это они? – удивился Николай. – Неужели тушить пожар?
– Мародеры. Спешат поживиться хозяйским добром. Народ стал дикий, злой. Ничего не осталось святого. Надо нам, Колюшка, с тобой все Лизино антикварное добро в землю закопать, пока эти ироды сюда не добрались. Степан еще до вашего приезда как-то к нам заходил, зыркал повсюду глазищами, к горке с грузинским сервизом присматривался, спрашивал, откуда он у нас. Ганка на тебя дюже зла, подобьет его на что угодно.
– Я, Марфа, собрался в Харьков ехать. Товарищи меня туда зовут на работу. Лиза не возражает.
– Езжай, езжай, касатик. Я собаку у Коростылевых присмотрела, хороший, умный пес. Приведу на днях. Будет с ним спокойней. Да и Илюша с Ваней обещали на каникулы приехать. А антиквариат завтра же ночью спрячем…, с той стороны летней кухни, куда маклюра подбирается. И кто это имение поджег? Вот антихристы. Совсем перестали Бога бояться.
Подходя утром к училищу, Николай заметил у входа Костюка и начальника народной милиции Щербину. Рядом с ними стояли два милиционера, оба известные в городе личности – бывший околоточный надзиратель Фелицын и пристав Симак. Видимо, не было особенно желающих служить в этом органе новой власти.
Сняв фуражку и обнажив черную кудрявую голову, Костюк с ухмылкой произнес:
– Наше вам почтенье-с, Николай Ильич. Ждем вас, не дождемся. Поговорить надобно-с.
Николай кивнул головой и, не останавливаясь, вошел в подъезд. «Вот клоун, – подумал он про себя, – и такого поставили во главе Общественного комитета. Что им от меня нужно?»
Незваные гости последовали за ним. Милиционеры остались на улице, сердито посматривая на проходивших мимо реалистов, корчивших за их спинами рожи.
– Идемте в кабинет директора, – сказал Щербина, уверенно направляясь в конец коридора, где висела табличка с фамилией Горбыля.
Увидев местное начальство, Алексей Власович растерянно привстал из-за стола.
– Господин директор, – сказал Щербина. – Нам надо побеседовать с вашим учителем.
– Пожалуйста, пожалуйста, я пока выйду в коридор, – не в меру засуетился тот, покидая свое кресло.
– Можете остаться, вы нам не помешаете.
Не обращая больше на него внимания, Щербина занял директорское кресло. Николай и Костюк, недовольный тем, что здесь ему отведена вторая роль, сели по другую сторону стола.
Николай рассматривал крупное красное лицо Игната Щербины, бывшего когда-то мясником на базаре и нагло обманывавшего покупателей, за что его прозвали в городе «упырем». На войне он, видимо, более усердно служил, чем его нынешние «коллеги», так как получил чин штабс-капитана и, вернувшись после ранения домой, был назначен Городской думой начальником народной милиции. Но любое прозвище надолго прилипает к человеку, в народе его по-прежнему называли между собой «упырем».
– Т-ак, т-а-к, – многозначительно протянул Щербина, тоже рассматривая Николая, раздражавшего его своим самоуверенным видом. Бывший мясник никогда не жаловал людей умных, образованных, да еще покушавшихся на государственную власть, при которой до войны ему вольготно жилось. Ему хотелось досадить этому Даниленко.
– Вы слышали о пожаре в имении Сабурова? – спросил он.
– Не слышал, но мог догадаться: черный дым валил с той стороны. Из нашего сада это было видно.
– Есть подозрение, что усадьбу спалил ваш знакомый Нестор Махно, выступавший вчера на митинге и подбивавший людей отнимать у помещиков землю и жечь усадьбы.
– Я этого не слышал.
– Как же так? Вы с ним об этом лично разговаривали, вот Степан Тимофеевич подтверждает, – он указал на Костюка, лениво кивнувшего головой.
– Мы говорили о Крестьянском союзе, образованном в Александровском уезде. Махно предлагал крестьянам и здесь создать такой же союз. Меня этот вопрос заинтересовал. После митинга он и его товарищи отправились на вокзал.
– Вы лично видели его в поезде?
– Нет. Что вы от меня хотите?
– Вы с ним долго разговаривали. Можно предположить, что вы были с ним в сговоре.
– Мы с ним сидели в одной камере в 908-м году. С тех пор больше не виделись. Больше мне сказать нечего. Я могу идти на урок?
Щербина промолчал и, с шумом отодвинув кресло, направился к двери. Костюк последовал за ним, разозлившись на Щербину, что разговор так неожиданно закончился, и он сам не успел задать Николаю ни одного вопроса.
– Николай Ильич, что они от вас хотели? – спросил Горбыль, возвращаясь к столу. – Я ничего не понял.
– Сегодня ночью кто-то поджег имение Сабуровых. Костюк и Щербина подозревают в поджоге некоего Махно из Гуляй-поля, выступавшего вчера на митинге. С этим человеком я сидел в тюрьме до эмиграции и подошел к нему, чтобы напомнить об этом.
– Вы в состоянии вести занятия?
– Вполне. Алексей Власович, я хотел с вами поговорить по личному вопросу, думал после уроков, но раз представился такой момент, скажу сейчас. Меня приглашают работать в Харьков. Я согласился. Доведу до конца учебный год и уеду.
– Мне искренне жаль. Ученики к вам привыкли. Теперь опять останутся без учителя физики и математики.
– Сейчас все равно начинаются каникулы, за лето кто-нибудь найдется на мое место.
– А украинский язык? Одни проблемы на мою голову, – окончательно расстроился Горбыль, перебирая на столе бумаги и засовывая в самый низ очередной приказ с трезубцем. – И что этим деятелям в Киеве неймётся? Лучше бы дали денег на ремонт здания, в потолках такие трещины, что того гляди штукатурка обвалится и кого-нибудь придавит.
ГЛАВА 3
В Харькове положение с продуктами оказалось не лучше, чем в Ромнах. На базаре и в магазинах было все, но так дорого, что туда ходили только свои местные богачи и приезжие господа из центральной России, начавшие потихоньку бежать на юг от царивших там беспорядков и перебоев с продуктами.
В первый же день Николай получил от товарищей талоны в столовую федерации. Утром в ней выдавали жидкую перловую или ячневую кашу на воде, чай и ломоть белого хлеба. Обед, как здесь считали, был приличный, в супе плавали кружки жира, а на второе вместе с гарниром из риса или перловки клали кусок мяса или рыбы. Ужинали дома или в соседнем трактире, где можно было прилично поесть за не менее приличную сумму.
Хорошо еще, что женщины заставили его взять с собой мешок с овощами, перловую крупу и добротный кусок сала. С этими запасами можно было продержаться долго. Но как-то сразу повелось, что у него часто стали собираться товарищи из федерации, и он сам или жена его соседа по лестничной площадке Арона Барона – Фанни, жарили для этой вечно голодной «публики» картошку с салом и луком. Правда, Арон, человек чрезвычайно импульсивный, предупреждал гостей, чтобы они особенно не «нагличали» и приносили с собой хлеб или что-нибудь из еды. Сам он был мастер по добыче спиртного и вообще любых нужных вещей, касалось ли это типографской краски или бумаги для очередного номера газеты. Николай считал, что он ловко применяет где-то свои прежние экспроприаторские способности.
Квартира, выделенная Николаю (весь дом анархисты заняли после революции) с расчетом на его семью, числилась у бывшего хозяина, как «жилье для одинокого мужчины». Но и для одного человека комнат в ней было более чем достаточно: гостиная-столовая, кабинет, спальня, кухня, туалет, ванная. Мебель полностью отсутствовала, видимо, ее при заселении растащили жильцы из других квартир.
На первое время туда перевезли из федерации письменный стол, кожаный диван и четыре стула. Для столовой он сам приобрел по дешевке раздвижной обеденный стол и немного посуды. Арон притащил откуда-то доски. Когда собиралось много народу, доски клали между стульями, рассаживаясь на них вокруг стола. Диван и письменный стол кое-как втащили в кабинет. Это было его любимое место, где он писал статьи для газеты «Хлеб и Воля».
Пока в редакции он был в единственном числе. Днем выезжал на заводы и в села (беседовал с людьми, читал лекции), вечером принимал посетителей, приходивших в редакцию по самым разным вопросам, зная, что их тут выслушают и помогут. Затем шел в типографию читать корректуру. Для работы над следующим номером оставались вечер и ночь. Он привык к такому ритму еще с Женевы. Газета всем нравилась, и это приносило ему моральное удовлетворение.
За два дня до открытия конференции у него собралось особенно много народу. Были тут и свои товарищи из федерации, и приезжие делегаты и гости. К традиционному блюду – жареному картофелю, они с Фанни наварили еще перловой каши, потушили ее с морковью и салом и отдельно в виде приправы нажарили две полные сковороды лука. Арон принес шесть бутылок царской водки.
Водка быстро развязала всем языки. Разговор зашел о недавнем мятеже в Петрограде. Сначала хвалили анархистов Ефима Ярчука и Иосифа Блейхмана, сумевших вывести на демонстрацию пулеметный полк и поднять весь город.
Затем стали ругать Петросовет, который отказался поддержать восставших, и правительство с ними жестоко расправилось.
– Вас поддерживал весь Кронштадт, – возмущенно говорил Арон товарищам из Питера, участвовавшим в этих событиях, – надо было сбросить и правительство, и этот никчемный меньшевистко-эсеровский гадюшник.
– Тебе, Арон, легко тут рассуждать. А войска, вызванные Керенским с фронта? – оправдывался бывший потемкинец Сергей Прусов, страшно худой, с бледным, изнуренным лицом: следствие каторжных работ на солеваренном заводе в Охотске. – Правительство и Петросовет действовали заодно. Петросовету власть не нужна, наше выступление его только напугало.
– В Петросовете нас не любят. Блейхман несколько раз обращался к Церетели с просьбой допустить в него анархистов. Тот ни в какую. Только после этих событий и согласился.
– Охота была связываться с эсерами и меньшевиками, унижаться перед ними…
– Я лично против того, чтобы анархисты входили в Совет, – сказал Алексей Горелик, анархист из Екатеринослава, – тем не менее, поведение Церетели меня возмущает. Что меньшевики себе позволяют?
– Нечего было допускать их к власти.
– Кто их допустил, не мы же?
– А дача Дурново? – опять завелся Арон. До июльского мятежа была еще история с дачей Дурново, ставшей после революции штабом анархистов. Там же находились типография и редакция буржуазной газеты «Русская воля». В один прекрасный день Блейхман с отрядом матросов выгнали оттуда всю редакцию, чтобы печатать свою газету и литературу. Разразился скандал. Кончилось тем, что правительство разгромило анархистов и отобрало у них дачу. – Зачем вы ее отдали?
– Вот ты опять, Арон, толком ничего не знаешь, а возмущаешься. Половцов туда нагнал казаков и солдат с бронемашиной, а против бронемашины с винтовками не попрешь, только людей погубишь.
– Буржуазная газета им дороже, чем свободная пресса анархистов. Вот вам и демократия, вот вам и свобода, – возмущались гости.
– Газету финансируют крупные банки. Она нападает на большевиков, а это всем на руку: и Петросовету, и Временному правительству.
– Все дело в нашей неорганизованности и разобщенности, – заметил рабочий с Путиловского завода Петр Заварзин. – Большевики и эсеры берут силой, их много, у нас же людей везде не хватает.
– Полностью с тобой согласен, – поддержал его Николай.
– А мятеж все-таки подняли мы, – упрямо стоял на своем Прусов, разгоряченный спором с Ароном – к нам больше доверия. За большевиками, небось, пулеметчики не пошли бы.
– Ваше выступление было обречено на провал…
– Ну, не скажи, Николай. Восстание на Потемкине в 905-м тоже началось стихийно, однако привело к революции. Стихия – это как ураган в море, все сметет на своем пути.
– Нет, Сергей. Стихия – это плохо. Петр правильно говорит, все дело в нашей неорганизованности. К любому выступлению надо серьезно готовиться, большевики это хорошо понимают, поэтому и не поддержали вас в начале мятежа…
– Не стоит сейчас говорить о делах, – вмешался Гаранькин, – оставьте силы для конференции.
– Друзья, – сказал Арон. – Давайте выпьем за Даниленко. Коля, мы – наглые люди. Съели всю твою картошку и сало, но это, пока не приехала твоя семья. Потом будем вести себя, как паиньки. Пьем за тебя, твою семью и будущее пополнение. Скорей привози их сюда.
– Ты еще намучаешься с нашей Верочкой, отвечать на ее вопросы: что и почему? Это такой философ!
– Выпьем за маленького философа.
Николай перестал следить за ходом беседы. Разговор перескакивал с одной темы на другую. Арон время от времени куда-то исчезал, и на столе появлялись новые бутылки водки. На кухне Фанни в шестой или седьмой раз жарила картофель, тушила перловую кашу с морковью. Запах лука и сала разносился, наверное, по всему дому.
Когда большая часть гостей разошлась, и остались все свои, неожиданно появились Ольга Таратута и Маруся Нефедова. Они были, как две тени, из прошлого.
Щуря близорукие глаза, Таратута выглядела жалкой и беспомощной. Из всех членов боевого отряда Борисова лишь несколько человек получили длительные сроки заключения. Ольге присудили 21 год каторги: 4 – за отряд и 17 – за прежние преступления. Если бы не революция, сидеть и сидеть ей в Лукьяновской тюрьме.
– Оленька, идите пить чай, – ласково сказал Гаранькин, беря ее за руку и усаживая на свое место.
– Не обращайте на меня внимания, – улыбнулась Ольга. – Я только второй месяц из тюрьмы, но на конференции буду активно выступать.
– Только не о терроре, – замахал руками Евгений Федорович.
– И о терроре тоже…
Маруся была в узкой юбке и в черном удлиненном жакете мужского покроя. Короткая стрижка с прямой челкой, закрывающей весь лоб и брови, придавала ее лицу выражение строгости и независимости. Даже улыбалась она теперь как-то иначе и, не переставая, курила отвратительные папиросы, от которых в комнате вскоре нечем стало дышать. Кроме Маруси, курили еще несколько человек, но они выходили на балкон. Николай смотрел на нее и диву давался: неужели это та художница, которая когда-то принадлежала к богемному миру Парижа и Женевы, восхищая всех своим мастерством и женским обаянием?
Гаранькин распахнул окно и тут же его закрыл: на соседней площади проходили занятия с новобранцами украинской армии.
– Маруся, пожалуйста, не курите, – взмолился он. – От ваших папирос болит голова.
– Мы хотим есть, – заявила Маруся и ушла вместе с Фанни на кухню. Снова на столе появились полные сковородки жареного картофеля и снова все ели, как будто перед этим не опустошили по нескольку тарелок этого «наивкуснейшего блюда», как заметила Ольга. Вскоре она начала клевать носом, и ее отвели на квартиру Баронов, где был лишний диван.
Маруся пила водку наравне со всеми, затем села рядом с Николаем и стала вспоминать Париж (первый период своего творчества), как ее целовал сам Модильяни и как высоко ценили ее картины и скульптуры в Европе. В Женеве они с Николаем были на «вы», здесь она сразу перешла на «ты».
– Коля, ты помнишь мои картины, которые я готовила к Осеннему салону в Париже?
– Конечно, помню. На них везде была Лиза.
– Я их тогда продала из-за Януша. Но суть не в этом. Меня и без этих картин знали, а теперь в Париж приехала Наташка Гончарова, рисует кривых баб и мужиков, какое-то примитивное лубочное искусство. А «Черный квадрат» Малевича? Придумал ерунду, а все в один голос твердят: шедевр.
– Осторожней, Маруся, – услышал кто-то их разговор. – Этот квадрат – родной брат нашего Чёрного знамени.
Маруся сморщилась, как будто проглотила кусок лимона, но тут ее лицо осветилось радостной улыбкой, она вскочила и захлопала в ладоши.
– Прошу внимания и тишины, а ты, Коля, на минуту закрой глаза. Сю-р-приз!
Николай послушно закрыл глаза. Зашуршала бумага, послышались восхищенные возгласы.
– Теперь открывай, – разрешила Маруся.
На столе лежала акварель, которую он отнес в художественный салон «Монблан» перед отъездом из Женевы в Париж.
– Не может быть, – радостно воскликнул он. – Откуда она у тебя, Маруся?
– Из салона «Монблан». Перед отъездом в Россию я зашла попрощаться с хозяином салона Эриком Гвинденом. Он показал мне эту акварель и рассказал о твоем визите. Знаешь, какое он дал ей название? «Перед расставанием». Я не могла поверить, что вы навсегда разошлись с Лизой. И потом… эта картина совсем о другом. Платок улетел, ну и что? Ветер, осень, двое влюбленных идут по аллее… В природе все приходящее и уходящее, а любовь – вечна. Я хотела выкупить ее обратно, но мы с Эриком старые друзья, он отдал ее так, раз она досталась ему бесплатно. Теперь она снова ваша. Я вас обоих очень люблю.
– Я отвезу ее в Ромны. Лиза обрадуется.
– Я сама к ней обязательно приеду, когда родится малыш; буду его крестной матерью.
Маруся расчувствовалась, присутствие человека, бывшего в курсе ее прежней жизни, потянуло раскрыть ему душу. Она говорила и говорила. Из ее сбивчивого рассказа Николай понял, что с художником Жюлем Дюверже они прожили в Ницце недолго, пока не кончились ее деньги. Тогда он куда-то исчез (подлец! подлец!). Затем на горизонте появился еще один художник, и с ним были какие-то приключения, кончившиеся тем, что она оказалась на краю такой нищеты, что пришлось выйти замуж за богатого старика-испанца. Всю войну она прожила с ним в Мадриде. Богач умер. Его дети (подлецы! подлецы!) обвинили Марусю в отравлении отца и подали на нее в суд. Посадить не посадили, а оставили без крупного наследства. Дальше уже Николай ничего не мог понять: Маруся заплакала, и Фанни отвела ее к Ольге.
– Бедняжка, – сочувственно покачал головой Гаранькин, – видно, здорово ей досталось за последние годы.
– Вероятно, раз она бросила живопись и поступила в Париже в военную школу офицеров, – просветил их Максим Волгин, недавно вернувшийся из Франции.
– Вот почему она так изменилась, – удивился Николай, – курит, пьет. Теперь будут с Ольгой агитировать за террор.
– Ну, нет, этого мы не допустим, – сказал Евгений Федорович. – Сейчас не те времена, когда можно разговаривать на языке пуль. Они сами это поймут, послушав выступления наших делегатов. Большинство людей против него. Я бы даже не стал этот вопрос включать в повестку дня.
– Посмотрим, что решит конференция.
– А я буду настаивать, – возразил Барон, – времена изменились, враги остались. В повестку можно не включать, но поговорить надо и о терроре, и об экспроприациях, без них все равно не обойтись.
Глаза его возбужденно блестели. На столе появилась новая бутылка водки.
В эту ночь Николай долго не мог уснуть. Маруся разбередила душу. Надвинулись воспоминания о Париже, Шарле, Франсуа, все их разговоры о будущих революциях. Как далеки они были от того, что происходило сейчас в России.
В Петрограде по-прежнему находились французский посол и французская военная миссия. Значит, дипломатические отношения между двумя странами сохраняются, и можно отослать письмо Готье. Пока было настроение, он сел писать.
«Милый Шарль, – аккуратно вывел он первую строчку, и сердце наполнилось теплотой, как будто писатель сидел рядом с ним, и он видел его доброе, открытое лицо. – Прошло восемь месяцев, как мы расстались, а кажется, что минула целая вечность. У меня теперь большая семья: Лиза (мы снова вместе), ее дочь Верочка и ждем еще новое пополнение. Они пока находятся в Ромнах у моей мамы, а я живу в Харькове (крупный, промышленный город на Украине), состою здесь в федерации анархистов и выпускаю газету «Хлеб и Воля».
О нашей буржуазной революции вы, конечно, слышали. Она привела к тому, что в стране установились две власти: Временное правительство и Советы депутатов. Советы, как и в первую революцию 1905 года, состоят в основном из меньшевиков и эсеров. Кое-где есть большевики и анархисты. Не все анархисты согласны с участием наших представителей в этих органах власти, по этому поводу идут серьезные споры. В целом же наши товарищи, как и следовало ожидать, оказались совершенно ни к чему не готовы.
Я все больше убеждаюсь (мы с вами не раз об этом говорили, но вы всегда мне возражали), что анархисты должны иметь свою партию (или центр) для объединения всех сил, общих целей и, что особенно важно, соблюдать организованность и строгую дисциплину, чтобы к нам не попадали случайные люди. Без этого мы никогда ничего не добьемся.
Мои военные тетради с записями, письмами Франсуа и вырезками из газет украли в поезде, когда я ехал домой из Петрограда. Пытался их восстановить, но бросил это дело, так как теперь веду тщательные записи и анализ всего того, что происходит сейчас в России и на Украине. Украина решила идти своим «самостийным» путем и еще неизвестно, как это скажется на возможности устроить здесь социалистическую революцию. На первое место вышел национализм, который постепенно переходит на местах в экстремизм и бандитизм.
Надеюсь в ближайшее время получить от вас ответ. Всех вас люблю и помню. Николай».
ГЛАВА 4
В три часа дня к роскошному особняку на Московской улице в Харькове подъехала пролетка с закрытым верхом. Из нее вышел бывший пристав пятого участка, а ныне начальник городской милиции Павел Васильевич Пушкарь. Одернув мундир и подкрутив непослушные усы, норовившие влезть ему в рот, он подошел к подъезду и с силой нажал кнопку звонка.
Старый швейцар в ливрее с лицом неподкупной мумии пропустил его в вестибюль. Тут же на лестнице появился слуга в черном фраке и белоснежной манишке, с таким же неподвижным, как у швейцара лицом, и велел ему следовать за собой.
Такая таинственность удивила Пушкаря. Дом принадлежал крупному текстильному промышленнику Георгию Михайловичу Кабанцу. Во время войны тот переехал в Киев. В особняке остались его супруга, сын-подросток и две взрослые дочери. Поговаривали, что, благодаря махинациям на военных поставках мануфактуры, промышленник увеличил свое состояние в несколько раз и сошелся в Киеве с какой-то оперной певицей. Теперь он поддерживал украинские национальные партии и был депутатом Центральной Рады.
Сюда Пушкаря пригласил бывший начальник харьковского сыска барон фон Лунге, ныне состоявший на службе при комиссаре Временного правительства. Гадая, зачем он понадобился барону и почему его вызвали именно в этот дом, Пушкарь шел за человеком во фраке по длинной анфиладе комнат, схватывая краем глаз богатую обстановку: картины, вазы, скульптуры, зеркала…
В одной из этих бесчисленных комнат около окна стоял фон Лунге с серьезным и, как Пушкарю показалось, недовольным видом, как будто он перед ним в чем-то провинился. Вытянувшись, как в былые времена, во фронт, он собирался доложить о своем прибытии, но тут из соседней комнаты вышел хозяин дома, пожал гостям руки и пригласил сесть в кресла. Пушкарь оробел: он впервые был в таком богатом доме и близко общался с такими важными господами.
– Павел Васильевич, голубчик, – вкрадчиво сказал Кабанец, подходя близко к креслу, где тот сидел, и обдавая его смешанным ароматом дорогих сигар и душистого одеколона. – Мы вас позвали сюда по сугубо личному делу. Все должно остаться между нами.
Начальник милиции хотел вскочить, чтобы выразить свою готовность в услужении – привычка, от которой не так легко избавиться, но Кабанец остановил его жестом руки.
– Сидите, сидите. Павел Васильевич. Дело вот в чем. Как нам стало известно, местная Федерация анархистов собирается завтра проводить свою конференцию.
– Они имеют на это право, мы не вмешиваемся в их дела.
– Вы знаете, кто такие анархисты?
Пушкарь усмехнулся: еще бы не знать! В 1908 году он вместе с фон Лунге и начальником жандармского управления подполковником Поповым участвовал в разгроме анархистской сети на юге России, лично проводил в Харькове и губернии их аресты.
– Эти люди до революции были опасными террористами.
– Вот-вот, голубчик. Тогда вы меня хорошо понимаете. Пять лет назад они сожгли наш сахарный завод под Одессой и убили моего старшего брата Алексея, пытавшегося угомонить разбойников. А теперь они мутят рабочих на моей ткацкой фабрике, уговаривая их установить рабочий контроль и всем командовать. Хорошо бы их всех вздернуть на виселице, но время еще, видно, для этого не пришло. Надо им помешать провести конференцию.
– Но…для этого нет оснований.
– Основания можно найти. Они заняли большой дом и, конечно, ничего за него не платят. – Подойдя к столу, Кабанец вынул из ящика папку. – Здесь приказ с подписями и печатью о том, что анархисты должны немедленно освободить помещение.
– Большевики тоже не платят, и эсеры…
– Позвольте, кто же за них всех должен платить? Они там живут, жгут электричество, используют воду. Зимой мы будем снабжать их теплом.
– Да, но…
– Никаких но…, – жестко сказал Георгий Михайлович. – На Украине теперь своя власть, она найдет управу на всех «эксистов». Мы не собираемся ждать, когда они начнут вооружаться и устраивать в домах военные склады… В папке лежит конверт с вознаграждением. Надеюсь, оно вдохновит вас на решительные действия.
Фон Лунг все это время молчал. Когда начальник городской милиции, подавленный свалившимся на него заданием, ушел, Кабанец упрекнул барона.
– Очень жаль, Аркадий Генрихович что вы меня не поддержали. В такое время мы должны действовать вместе, а то неровен час и вам придется обращаться в Раду за помощью, а мы возьмем и разведем руками.
– Не беспокойтесь, Георгий Михайлович, Пушкарь прекрасно справится со своей задачей и без моих указаний. Человек старой закалки.
– Надеюсь, – сказал Кабанец и, вынув из кармана еще один конверт, протянул его барону. – А это ваша доля.
Смутившись, тот отвел его руку с дорогим перстнем на безымянном пальце. Кабанец усмехнулся.
– Дорогой друг, давайте без церемоний… Если у вашего протеже все получится, я заберу его с собой в Киев. Мне нужны надежные люди, а не получится, – грош цена таким сотрудникам.
Подъехав вскоре к зданию федерации анархистов на Садово-Куликовской улице (кроме федерации, там находились еще типография анархистов, общежитие и редакция газеты «Хлеб и Воля»), Пушкарь оставался в коляске, ожидая, когда подойдет вызванный им отряд милиционеров. На улице было оживленно. В здание федерации то и дело входили и выходили люди.
Взгляд его остановился на двух черных флагах, развивающихся на крыше. На одном отчетливо виднелись слова: «Да здравствует Анархизм!» Прочитав их, он поморщился, как от зубной боли. Наконец подошел отряд милиционеров: бывшие фронтовики, но все какие-то худые и хилые – в них не было и десятой доли того, что всегда отличало могучие фигуры и грозные лица царских жандармов. Выйдя из коляски, он приказал им оставаться на улице, в разговоры ни с кем не вступать, силу не применять, а сам направился к подъезду.
В вестибюле двое охранников выслушали его требование поговорить с начальством. Один из них поднялся наверх и, вернувшись, вежливо сообщил, что в федерации идет совещание, придется подождать. Возмущенный таким неуважением к представителю власти, но, не желая лезть на рожон, Пушкарь отошел к окну. Проходившие в здание и обратно люди сверлили его любопытными взглядами.
– Долго еще ждать? – недовольно спросил он охранников.
– Сказали, что сами спустятся.
Между тем никакого совещания наверху не было. Собравшиеся в кабинете Гаранькина анархисты: Барон, Даниленко, Гребнев, Флешин и еще несколько человек, недоумевали, зачем к ним пожаловал столь неожиданный гость – все-таки какая-никакая, а власть.
– Что мы тут гадаем, – сказал Арон, – надо узнать, что он от нас хочет. Пойду, позову его.
– Только без всяких фокусов, Арон, – крикнул ему вдогонку Гаранькин.
Пушкаря встретили молчанием, усадили в кресло и рассматривали, как редкое ископаемое. Ему показалось, что одного из этих людей – да, да, вон того чернявого, по кличке «Цыган» он арестовывал и допрашивал в участке в 908-м году, тот потом надолго загремел в Сибирь. По спине его пробежали мурашки, но, вспомнив о конверте, приятно согревавшем душу, начальник милиции приободрился и жестким голосом заявил, что здание, в котором сейчас находится Федерация анархистов, занято ими незаконно, его надо немедленно освободить. В противном случае у него есть право применить силу. Он вытащил из портфеля приказ о выселении и положил на стол.
Арон небрежно пододвинул бумагу к себе.
– Что за чертовщина? Заверен какими-то сомнительными подписями и печатью.
Надев очки, Гаранькин тоже выразил удивление.
– То ли Рада, то ли Временное правительство. На штампе что-то по-украински, только не разберешь что… Какое им всем дело до нашего здания?
– Мне это напоминает царские времена, – взорвался Барон.
Тут «Цыган» опознал гостя. Глаза его вспыхнули.
– Да это бывший пристав Пушкарь, – воскликнул он, – выслеживал нашу группу в 908–м году. Он меня допрашивал в участке и угрожал вздернуть на виселице.
– Мы его сейчас сами вздернем. Попался голубь, – Барон двинулся к милиционеру, размахивая руками и шипя, как раздосадованный чем-то гусак. Тот побагровел от злости, но сдерживал себя, в его интересах было решить вопрос мирным путем.
– Арон, прошу тебя, угомонись, – повысил голос Гаранькин и обратился к Пушкарю. – Завтра у нас начинается важное мероприятие. После этого мы рассмотрим все ваши претензии. Мы – цивилизованные люди, должны понимать друг друга.
– Цивилизованность тут не причем. Вы нарушаете законы. Если к утру не освободите помещение, я вынужден буду применить силу. Внизу стоит отряд милиционеров.
– К чему такая спешка?
– В приказе все сказано. Честь имею, господа.
Вернувшись к своему отряду, он приказал всем разойтись и снова тут собраться в семь утра. Сам еще целый час гулял по Садово-Куликовской улице, надеясь, что анархисты образумятся и выполнят его распоряжение, но не тут-то было: около здания федерации царило все то же оживление, над входом в подъезд появился плакат со словами «Добро пожаловать!» «Этих бандитов ничем не испугаешь, – возмущался про себя Пушкарь, – после революции они совсем обнаглели».
Ждать больше не имело смысла. Он отправился в управление, решив ночью выставить около федерации вооруженную охрану, а саму улицу с обеих сторон перегородить милицией.
После его ухода Гаранькин вспомнил, что к ним несколько раз приходили бумаги об уплате за аренду здания. Арон неизменно рвал их, говоря, что особняк экспроприирован в пользу народа, никакой оплате не подлежит. «Не платили и не будем платить, – заявлял он категорично. – Нас не запугаешь».
– Что же делать? – разволновался Евгений Федорович, – что, если они, действительно, применят силу и сорвут конференцию?
– Я могу собрать людей, – предложил Барон, – у меня на «ВЭКе» есть отличные ребята, они справятся и с полицией, и с милицией.
– Арон, прошу тебя, только не это, – взмолился Гаранькин, протирая платком очки и вспотевший лоб. – Надо решить все мирным путем. Не пойму только, почему они устроили эту комедию перед самой конференцией, чем мы им помешали?
– Происки большевиков, – уверенно заявил Гребнев. – Вчера в их газете была статья по поводу нашей конференции. Натравили на нас фон Лунга, а тот прислал сюда Пушкаря.
– Это подло с их стороны.
– Мы их не трогаем. Зачем им это надо?
Услышав о визите начальника городской милиции, в кабинете Гаранькина собрался народ. Из общежития пришли делегаты, прибывшие на конференцию. Некоторые горячие головы, вроде Барона, готовы были немедленно схватиться с милиционерами. Тон задавали люди, участвовавшие в начале июля в петроградском мятеже и имевшие при себе оружие.
– Это дело так оставлять нельзя, – горячился путиловец Петр Заварзин. – Если это распоряжение комиссара Временного правительства, то мы с товарищами придем к Керенскому и разберемся, что за люди у него работают на местах, а если большевики, то и на них найдется управа.
– Какая разница от кого пришел этот бывший пристав? Они – все тут одна шайка-лейка.
– Тише вы, угомонитесь, – прикрикнул на них Гаранькин, – от вашего крика голова трещит.
– На паровозостроительном заводе есть свой клуб, – сказал Флешин. – Можно там провести конференцию.
– У нас нет времени перетаскивать туда все материалы.
– За ночь успеем. Так я пойду, договорюсь с ними, Евгений Федорович, будем иметь запасной вариант.
– Попробуйте, Сеня.
Флешин быстро вернулся.
– Милиционеры ушли, – радостно сообщил он.
– Это хорошо или плохо? – задумался Гаранькин. – Может быть, они пошли за подкреплением и к утру вернутся? Постарайтесь, Сеня, все-таки решить вопрос с клубом.
– Хорошо, Евгений Федорович
– Что-то мне все это не нравится,– сказал Гребнев. – Я, пожалуй, останусь тут ночевать. Кто со мной?
– Я тоже останусь, – поддержал его Гаранькин. – Даниленко, ты, как?
– Конечно, останусь. Заодно обсудим еще кое-какие вопросы. Всем остальным предлагаю разойтись. Если будет необходимость, мы вас позовем.
К Николаю подошел человек с папкой в руках и, представившись гостем из Москвы, спросил, где можно найти Барона. Он хотел с ним поговорить.
– Он только что был здесь. Витя, – обратился Николай к Гребневу, – ты не знаешь, где Арон?
– Не знаю. Наверное, ушел в общежитие.
– Странно. Обычно он предупреждает, когда уходит. Спустись, пожалуйста, вниз, узнай у дежурных: может быть, отправился домой?
Гребнев быстро вернулся.
– Никто Арона не видел, – доложил он. – И в общежитии его нет. Я встретил оттуда двух товарищей, они его тоже ищут.
– Куда он мог деться?
– А мне что делать? – спросил гость из Москвы. – Я тогда пойду.
– Я могу с вами поговорить, – сказал Николай. – Что у вас за вопрос?
– У меня не вопрос. Арон интересовался, как работает на нашей фабрике рабочий комитет.
– Я – редактор харьковской газеты «Хлеб и Воля», Николай Ильич Даниленко. Мне это тоже интересно. С удовольствием вас выслушаю.
– Моя фамилия Новотельнов. Алексей Афанасьевич Новотельнов. Работаю на обувной фабрике «Витязь» в Москве.
– О, мы – почти коллеги. Я работал в Женеве механиком на резиновой фабрике.
– Тогда мы поймем друг друга, – обрадовался москвич. – Дело вот в чем, Николай Ильич. Когда наши бывшие хозяева сбежали из города и оставили фабрику на произвол судьбы, рабочие решили сами на ней хозяйничать, так сказать, коллективно.
– Вот это молодцы.
– Конечно, не все сразу согласились. А почему? Не верили в свои силы. Посуди сам, – неожиданно перешел он на «ты», почувствовав к собеседнику полное расположение. – Не было ни топлива, ни сырья, ни заказов. Как работать? Где доставать кожу и все остальное? Куда везти готовую обувь? Ведь под боком у нас еще ряд таких предприятий, да и «Скороход» из Питера шлет свои товары. Хорошо, нас поддержал старший экономист Лукьянов. Умная, скажу тебе, голова.
– Подождите, Алексей Афанасьевич, не так быстро. А главным инициатором кто выступил, анархисты?
– В основном да, но были и большевики, и беспартийные. У нас дружный коллектив. Так вот. Создали мы несколько комиссий, и каждая из них занялась своим делом. Вместе с Лукьяновым они решали, что сейчас выгодней выпускать: ботинки, дамские туфли или кожаные сапоги? Военные заказы для армии нам давно перестали давать. Разослали повсюду своих курьеров. Стали заключать договора. Одну часть обуви продавали; другую – обменивали в Москве на мануфактуру, посуду, мыло; третью – вывозили в деревни. Зарплата выходила небольшая, но к ней еще каждый получал продукты и вещи.
– Замечательный пример рабочей инициативы…
– Да, но сейчас вернулись наши прежние хозяева и хотят фабрику продать.
– Где же они были раньше?
– Это – известные предприниматели Холодовы. Испугались, что новая власть их арестует за махинации во время войны, сбежали в Париж. Теперь вернулись обратно. Два их других завода, кирпичные, загибаются, а фабрика работает исправно. Вот они и решили, пока не поздно, с выгодой ее продать. Предложили нам искать другую работу, да еще припугнули: в случае сопротивления ввести войска. Барон меня сюда пригласил, чтобы я выступил на конференции, а я писать не умею, в смысле подготовить себе речь, да и с трибуны говорить не мастак.
– Давайте решим так, Алексей Афанасьевич. Я подготовлю материал с вашим рассказом в газете, люди его прочитают, и мы на конференции все обсудим. Так оставлять это дело нельзя. А Барона вы дождитесь. Он обязательно придет.
День за окном угасал. Заглянувшее на минуту солнце осветило уставшие лица людей и исчезло. Кто-то щелкнул выключателем, под потолком ярко вспыхнула старинная люстра. Николай пересел к другому столу и принялся за статью. В кабинет приходили люди, спрашивали Барона. Однако он так и не появился. Прождав еще некоторое время, Новотельнов ушел в общежитие.
Ночью все было тихо. Под утро Гаранькин поехал домой привести себя в порядок и через два часа вернулся, чтобы отпустить остальных.
– Как там, на улице? – спросил Николай.
– Пока спокойно: ни Пушкаря, ни милиции.
– Непонятно, зачем они сюда приходили.
Николай отнес готовую статью за подписью Новотельнова в типографию и, довольный тем, что быстро все сделал и впереди предстоит интересный день, не спеша шел по улице, вдыхая свежий воздух, еще не прогретый солнцем и не задымленный машинами. От непривычной жары с деревьев нападали высохшие листья и скрипели под ногами, как это бывает осенью во время листопада. «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу… Смело топчу я ногой вешнюю леса красу…», – пришли ему на ум первые строки стихотворения Майкова, но дальше, как не старался, вспомнить не мог.
Впереди мелькнула мужская фигура. Занятый стихами, Николай не заметил, откуда она появилась. По одежде ему показалось, что это – Барон: его серый сюртук и коричневые брюки. Громко окликнул его. Не оборачиваясь, человек бросился бежать и свернул на соседнюю улицу.
«Показалось», – решил Николай, продолжая вспоминать стихи Майкова, но всплыли чьи-то другие строки на эту же тему: «Солнце реже смеется. Нет в цветах благовонья. Скоро Осень проснется и заплачет спросонья». «Старею, – подумал он с грустью. – Любимые стихи стал забывать».
В его распоряжении оставалось не много времени. Спать не имело смысла. Побрился, принял душ и стал пить чай в комнате. На глаза попался конверт с письмом к Шарлю. Хорошо, что не успел его заклеить; он вытащил письмо и сделал приписку.
«Шарль! Несколько часов назад я беседовал с рабочим из Москвы. Он и его товарищи на своей фабрике собственными силами наладили работу предприятия, когда его хозяева сбежали. Сейчас у нас повсюду создаются такие фабрично–заводские комитеты, которые отстраняют хозяев и высший персонал от управления производством и сами берутся за дело. В скором времени все фабрики и заводы смогут перейти в руки рабочих. В Европе ничего подобного нет, мы идем своим путем».
Когда он закрывал входную дверь, на площадку вышла Фанни Барон с бледным, измученным лицом.
– Коля, – уставшим голосом сказала она, – я слышала, когда ты пришел. А где Арон?
– Не волнуйся, Фанни. Вчера милиция пыталась сорвать конференцию. Мы все там дежурили по очереди. Арон отсыпается в общежитии.
– Ты в этом уверен?
– Уверен.
– Теперь я успокоилась, а то всю ночь не могла уснуть. Ты же знаешь, какой он заводной. Может попасть в любую историю.
– Я иду на конференцию. Ты готова?
– Выйду через полчаса.
– Тогда до встречи.
Николай не мог понять, куда исчез Арон, если его не было ни в общежитии, ни дома и, что делать, если его не окажется на конференции?
На Садово-Куликовской улице все было спокойно. Над зданием федерации по-прежнему развивались анархистские флаги, висел плакат с приветствием делегатов. По улице ходили дружинники – рабочие с черными и красными повязками: неизвестно, что все-таки Пушкарь задумал, ведь зачем-то он сюда приезжал и угрожал анархистам?
Первым, кого он увидел в вестибюле, был Арон, отдававший распоряжения группе дружинников из рабочих.
– Ты где пропадал? – накинулся на него Николай. – Фанни беспокоится.
– Ночевал в общежитии.
– Хитришь, братец. Тебя там не могли найти. Фанни скоро придет, покажись ей на глаза.
Николай обратил внимание на его светлый пиджак и черные в полоску брюки (прямо пушкинский денди!), которых он раньше у него не видел. Заметив, что Николай с интересом рассматривает его наряд, Арон весело подмигнул ему и продолжал разговор с дружинниками. «Надеюсь, у него хватило ума не надевать краденые вещи, – подумал Николай, – а если не краденые, то откуда они у него вдруг взялись?»
На втором этаже делегаты, окружив Гаранькина, что-то оживленно обсуждали. Евгений Федорович поманил его пальцем:
– Ты читал сегодняшние газеты?
– Не успел. Что там такое?
– Убиты Пушкарь и Кабанец. Первый – в помещении милицейского управления, второй – в собственном особняке.
У обоих мелькнула одна и та же мысль: «Барон. Его рук дело». Извинившись перед товарищами, они отошли в сторону.
– Ты думаешь, все-таки Арон? – спросил Евгений Федорович.
– Утром я разговаривал с Фанни. Дома он не ночевал. И здесь его вчера не видели.
– Непонятно только, причем тут Кабанец?
– Возможно, они связаны друг с другом, Арону удалось это узнать.
– И когда только он все успевает? – покачал головой Гаранькин.
Николай не стал ему рассказывать, что, возвращаясь утром домой, видел вдалеке человека, похожего на Барона; когда он его окликнул, тот поспешил скрыться. Произошло это, как он сейчас сообразил, недалеко от Московской улицы, где находится дом Кабанца.
– Во всяком случае, – сказал он, – теперь нам никто не помешает провести конференцию. Я, Евгений Федорович, нашел вчера человека, который расскажет интереснейшие вещи о своей фабрике. Горячая дискуссия обеспечена.
ГЛАВА 5
Первый день конференции целиком ушел на утверждение регламента, повестки дня, представление делегатов и гостей с мест, которых оказалось значительно больше, чем ожидалось – еще бы! первая крупная конференция анархистов в России. Иногда слишком долго спорили и обсуждали какую-нибудь мелочь, не стоившую и выеденного яйца, это раздражало Николая еще в Париже, а сейчас и вовсе казалось неуместным.
В результате на обсуждение докладов и основных вопросов осталось четыре дня. Регламент никто не соблюдал. Каждому хотелось обязательно выступить и высказать свое мнение, а так как редко кто умел четко и ясно выражать свои мысли, то каждое заседание затягивалось до глубокой ночи.
Больше всего говорили и спорили о рабочих комитетах и профсоюзах. Одни считали профсоюзы наследием умирающего капиталистического общества и видели будущее за рабочими комитетами. Другие заявляли, что эти комитеты должны существовать только как профсоюзные ячейки. Их неумелая, порой реакционная деятельность и привела ныне экономику и производство к кризису.
– Все это ложь, искажение истинного положения вещей, – возмущался на трибуне анархо-синдикалист из Харькова Ротенберг. – Хватит подпевать Скобелеву. Профсоюзы обанкротились по всему миру, – в зале послышался смех. – И не стоит смеяться. Да, да! Сегодня нужны совершенно другие методы борьбы с хозяевами. Конечно, им не нравится, когда рабочие вмешиваются во внутреннюю жизнь предприятия, с профсоюзами легче иметь дело, они всегда готовы пойти на компромисс. Поэтому и Скобелеву, и тем людям, которые доказывают вредность фабкомов и призывают нас положиться на профсоюзы, мы скажем: «Прочь руки от революционных комитетов. Мы не пойдем по вашему пути. Мы должны закончить борьбу с капитализмом – вплоть до полного его исчезновения».
– Я тоже так считаю, – поддержал его Виктор Брыль, рабочий с Харьковского локомотивного завода. – Если мы хотим исчезнуть, пусть заводы достанутся профсоюзам, а если хотим выжить, то мы должны их взять в свои руки и немедля.
– Правильно, – закричал со своего места Новотельнов, размахивая свежим номером газеты «Хлеб и Воля». – Читали, товарищи, статью о нашей фабрике в Москве? Вот какую работу развернул наш комитет…
– Так у вас хозяева отнимают фабрику…
– Пусть попробуют, мы не сдадимся, – вдруг осмелел Новотельнов, бывший еще вчера в полном отчаянии.
Тут со своего места поднялся делегат из Шлиссельбурга Иустин Жук, член коллегии по управлению пороховым заводом, где он работал.
– Ты, товарищ Новотельнов, не дрейфь, мы вам подскажем, как вести себя с бывшими хозяевами. Их время кончилось. Нечего теперь размахивать кулаками и качать свои права.
– Правильно, правильно, – закричали и захлопали в зале.
– А мы в свою очередь поучимся у вас, как вести товарообмен с крестьянами и другими предприятиями.
– Порох обменяете на хлеб?
– Товарищи, я не против шуток, но не при серьезном обсуждении вопроса, – с досадой сказал Жук, направляясь к трибуне. – В прошлом номере этой газеты я тоже рассказал, как мы отобрали у наших хозяев завод, а у нашего соседа землевладельца барона Медема – кирпичный завод и молочное имение. Вот и приспособим их продукцию для обмена. Сейчас кирпич на рынке самый дефицитный товар. А при желании можно и порох пустить в дело. Была бы голова на плечах.
Ему дружно захлопали, но он поднял руку, призывая к тишине.
– Вам, товарищи, известно о событиях, произошедших недавно в Петрограде. В борьбе с буржуями и капиталистами анархисты всегда готовы действовать вместе с большевиками, и эсерами, и даже меньшевиками. Но, товарищи, с большевиками надо быть осторожными. Я бы всем советовал внимательно ознакомиться со статьей Ленина «Удержат ли большевики власть?» Этот человек не сомневается, что большевики возьмут власть в свои руки и будут всем и всеми командовать. По его мнению, рабочий контроль везде и повсюду должны будут осуществлять Советы, тоже, как вы понимаете, к тому времени подконтрольные их партийным комитетам. Наши же призывы «переходить от контроля к захвату предприятий» и национализации всей государственной собственности он высмеивает, считая, что простые «железнодорожники и кожевенники» приведут страну не к социализму, а к анархии.
– Мы еще посмотрим, кто кому будет подконтролен, – закричали с мест. – Им бы только власть захватить.
– Товарищи, – Жук опять поднял руку. Был он крупный, широкоплечий, настоящий русский богатырь. Подкупал он и тем, что родился на Украине, руководил когда-то в Черкассах группой анархистов-коммунистов и как активный боевик за убийство жандарма отбывал пожизненную каторгу в Шлиссельбургской крепости.
– Товарищи! Анархистским призывам Ленин противопоставляет свой: общегосударственный всеобъемлющий рабочий контроль. Сами подумайте, какой может быть рабочий контроль при государстве? Это – ловушка. Вернувшись обратно с этой конференции, мы должны разъяснять рабочим этот обман и не дать большевикам их облапошить.
«Вот молодец, – радовался его словам Николай Даниленко, – ловко раскусил Владимира Ильича».
Не менее горячо делегаты спорили об участии анархистов в Советах депутатов, хотя эта дискуссия несколько запоздала: во многих местах, по усмотрению своих групп, анархисты входили в городские, районные и крестьянские советы. Некоторые даже возглавляли их. По ходу обсуждения было названо имя председателя Павлоградского Совета рабочих депутатов Моисея Аристова – известного в прошлом анархиста, а теперь большевика. Услышав эту новость, Николай опешил. Так вот почему Моисей не подает о себе знать. Боится, что старые друзья его осудят, или решил на своем новом поприще держаться от них подальше?
Большинство людей сошлись на том, что участие анархистов в советах желательно только «исключительно с информационной целью».
В последний день приняли решение провести до конца года Всероссийский объединительный съезд. Для его подготовки выбрали Осведомительное бюро, а его секретарем – Николая Даниленко, человека опытного и в написании статей, и в работе с людьми. На него ложилась вся работа по организации форума и выпуска информационного Бюллетеня.
Ольга Таратута при поддержке Барона два раза пыталась поднять вопрос о терроризме, но его рассмотрение откладывали на потом, а потом уже и времени не хватило.
ГЛАВА 6
Выполняя поручения конференции, Николай опубликовал в Бюллетене несколько обращений к анархистам России и сам лично побывал в Луганске, Крамоторске, Юзовке, Кременчуге, Херсоне, Мариуполе, Одессе, Николаеве, Новороссийске, Ростове-на-Дону. Все это были крупные промышленные города, где за первые месяцы революции анархисты сумели завоевать авторитет у рабочих. Под их влиянием находились целые железнодорожные участки, Донской промышленный район, Донецкий бассейн. В Екатеринославе ведущие профсоюзы и многие фабрично-заводские комитеты возглавляли анархисты. Все они без всяких сомнений поддержали идею о Всероссийском съезде. Теперь Николай собирался ехать в Москву и Петроград, чтобы там окончательно согласовать время и место проведения съезда.
За все это время в Ромнах он был четыре раза. Побыв с семьей два – три дня, возвращался в Харьков ночным поездом. Перед поездкой в Москву и Питер решил пожить дома не меньше недели и выполнить давно намеченные хозяйственные работы.
Делая пересадку в Сумах, он встретил в вагоне московского поезда своего старого товарища, режиссера Петра Остапенко, ехавшего навестить родителей. Друзья не виделись почти десять лет. Петр давно уехал из Екатеринослава. Жил в Харькове, Киеве, Петрограде. Теперь работал в Москве в небольшом музыкальном театре. Сам писал для себя скетчи и водевили, сам их ставил, сам придумывал декорации и играл по нескольку ролей, так как неплохо пел и танцевал.
– В театре сейчас много пошлости, – с энтузиазмом говорил он Николаю, чтобы скоротать время. – Такие серьезные вещи, как «Гамлет», «Отелло», «На дне», «Чайка», никого не интересуют. И так вокруг много смерти и убийств. Зато в оперетту и на водевили идут охотно, – и пропел:
Зашел я в склад игрушек,
Веселых безделушек,
Весеннею порою как-то раз.
Из тысячи игрушек
Понравился мне турок,
Глаза его горели, как алмаз.
– Вот самая популярная сейчас песенка из одного водевиля, но не моего…
– А дальше в ней что?
– Дальше турок говорит:
Не беспокойтеся, мадам,
Заменю я мужа вам,
Если муж ваш уехал по делам.
– Действительно, пошлость, – согласился Николай.
– Театр давно пора реанимировать, ему нужен свежий ветер, основательные перемены, как это делает в Питере Мейерхольд. Это – талантище, новатор, голова, полная идей. В Александринке поставил «Маскарад» по Лермонтову с декорациями Головина. Его больше занимали не конфликт Человека и общества и личная драма Арбенина и Нины, а некое символическое вмешательство злого рока в судьбы людей. В конце спектакля опускается черный прозрачный занавес, на котором изображен белый венок, за ним молча проходит скелет в треугольнике. Успех был невероятный. А ведь это был своего рода реквием по самодержавию. Из Мейерхольда идеи так и брызжут. Представь себе театр будущего: сцена посредине зала, вокруг сидит публика и тоже участвует в действии. Меня эта мысль тоже занимает, и еще – кубизм в театре. Слышал, что-нибудь о таком направлении в искусстве?
– Конечно. В Париже насмотрелся Пикассо и Жоржа Брака. Но геометрические фигуры на сцене не представляю.
– В Париже шли такие балеты в декорациях Гончаровой и Ларионова.
– Это было во время войны, я тогда не вылезал со своего завода.
– Старое искусство изжило себя. Новому обществу нужны новые формы выражения духовного и внутреннего мира.
– По-моему, вы слишком много на себя берете. Старое искусство не может себя изжить.
– Как все эмигранты, ты отстал от жизни.
– Ты сам только что говорил, что в Москве много пошлости…
– Вот с этой пошлостью и надо бороться…
Расставаясь, Николай обещал Петру обязательно побывать в его театре, когда приедет в Москву.
В Ромнах было тепло. Деревья в садах гнулись под тяжестью яблок и груш – в этом году выдался их небывалый урожай. Пахло нападавшими на землю и забродившими плодами. Ближе к окраине в пыли, у дороги кустились золотые шары и мальва, опутанная повиликой. Во всем этом был привычный покой и уют провинциального города, где, на первый взгляд, годами ничего не меняется. Но, проезжая на извозчике по знакомым улицам, Николай видел в домах закрытые ставни, хотя время перевалило за полдень, наглухо запертые ворота и двери. Даже собаки куда-то попрятались и притихли.
Перед тем, как приехать домой, он всегда давал телеграмму. Лиза и Вера выходили к этому часу на улицу, ожидая его около ворот. И сейчас они там стояли. Верочка первой его увидела и бросилась навстречу. По дороге за что-то зацепилась, упала и, больно ударившись коленками, заплакала. Николай подхватил девочку на руки, расцеловал и вытащил из сумки обещанный подарок – куклу с закрывающимися глазами. Увидев ее, девочка моментально забыла о разбитых коленках.
– А как ее зовут? – спросила она, еле переводя дыхание от восторга.
– Сама придумай. Хотя давай посмотрим на этикетку, там должно быть сказано имя. Да, вот оно – «Светлана».
– Я тоже так буду ее звать.
Забыв о разбитых коленках, счастливая девочка побежала в дом, чтобы показать бабушкам и Олесе свой подарок. Николай и Лиза рассмеялись.
– Ты ее слишком балуешь, – сказала Лиза, беря его под руку и крепко прижимаясь к нему. – Третья кукла за наш приезд сюда.
– Ребенок должен запомнить, что у него было хорошего в детстве. Мы, маленькими, всегда ждали приезда нашей бабушки Екатерины Михайловны. Как-то она подарила мне на день рождения лошадь-качалку. Мне было года три или четыре. Володе она тоже понравилась, и он выменял ее у меня на саблю. Вскоре я сообразил, что обмен был невыгодный, и разревелся. Бабушка собрала всех братьев и велела нам играть в игрушки по очереди.
– Неужели Володя был такой?
– Он же был ребенок. Мы все завидовали подаркам других. Каждый считал, что у кого-то лучше, чем у него. Так же было и с подарками папы. Однажды рассердившись, он сказал, что больше не будет нам ничего привозить, но все равно привозил. Любил нас баловать.
Рассказывая, Николай искоса посматривал на Лизу. Несмотря на беременность, выглядела она весьма эффектно. На ней было синее в горошек платье с белым воротником и белыми манжетами на рукавах в три четверти, черный вязаный жилет, накрашенные губы. И еще почувствовал нежный аромат французских духов.
– А духи откуда?
– Ни за что не догадаешься…
– Рассказывай, не томи.
– Маруся Нефедова приезжала.
– Молодец, сдержала свое обещание. Но как ее сюда занесло, они собирались с Ольгой в Киев?
– Кто-то уговорил ее ехать в Гуляй-поле, к Махно. До него она не доехала, остановилась в Александровске и организовала там свой отряд. Представляешь: Маруся, верхом на коне и командует мужиками?
– Она очень изменилась, даже внешне стала другой.
– Все равно в ней больше женского, чем мужского. Кого только она не любила за свою жизнь… Бжокач, Жевье, еще целый ряд мужчин, не говоря о поклонниках…
– В ней говорит обида за неудавшуюся жизнь.
– С чего ты взял?
– Бжокач заставил ее продать свои картины, потом уехал и продолжал вытягивать деньги. Если бы не он, ее жизнь могла сложиться иначе.
– В Женеве она вспоминала какого-то Петечку Романовского, сделавшего из нее террористку. Безумно любила его, а он ее бросил.
– Вот-вот, с этого Петечки и идет обида.
– Ей здорово досталось за эти годы, теперь она хочет доказать, что все может. Нет, я Марусей восхищаюсь. Взбудоражила своим приездом. Идем скорей, Марфа тебе баню приготовила.
После бани (ее топили в летней кухне) и выпитой вишневой наливки Николай чувствовал себя абсолютно счастливым. Женщины не знали, как ему угодить. Мяса не было (на базаре оно было не по карману, а своих кроликов и кур берегли на зиму), но Марфа и Елена Ивановна напекли целую гору пирожков. Эти пышные румяные пирожки разной формы, чтобы знать, где какая начинка, могли заменить любое изысканное блюдо.
Елена Ивановна села за рояль. Затем она попросила сыграть что-нибудь Лизу. Лиза играла их общие любимые вальсы и пьесы Шопена. Все было, как в старые, лучшие времена.
Верочка не слезала у него с рук, мучая своими бесконечными вопросами: зачем и почему? Отвечая ей, он смотрел на жену, улыбавшуюся им обоим краешками губ. Совсем скоро у них появится малыш, как считала мама, по положению Лизиного живота, будет девочка. После поездки в Москву и Питер, а это займет не больше двух – трех недель, он вернется в Ромны и будет с семьей до тех пор, пока Лиза не родит, и еще некоторое время после родов, в зависимости от самочувствия ее и ребенка. Так он договорился с товарищами.
Лиза играла недолго. Ей было уже все тяжело делать: сидеть, стоять, лежать. Как она говорила, устала от самой себя. Эта беременность на последних месяцах проходила тяжелей, чем первая. Елена Ивановна упрекала ее, что она мало двигается. Николай заставлял ее больше ходить; по вечерам они брали Веру и гуляли по дороге вдоль забора и березовой рощи.
Утром он поднимался раньше всех и принимался за домашние дела. За эти дни надо было починить крышу, заделать трещины в стенах летней кухни, привести в порядок садово-огородное хозяйство, увеличившееся за счет разобранной конюшни и круга, где Илья когда-то тренировал своего любимого коня Солнышко.
У женщин было свое занятие. После завтрака до самого захода солнца они обрабатывали фрукты: варили варенье, повидло, кисели, компоты, делали мармелад, желе, заготовки для пирогов, моченые яблоки с пряностями. Отборные яблоки и груши укладывали в ящики для зимнего хранения. Все остальное сушили.
Сушка была самой утомительной работой: фрукты мыли, чистили, резали на кусочки и укладывали на противни, которые стояли везде, куда заглядывало солнце. К вечеру их собирали и относили в летнюю кухню. Летом так же сушили ягоды. Все это потом мама будет отправлять в посылках или передавать с оказией сыновьям. Так было всегда.
Мама не хотела отступать от этих правил, хотя сахар неумолимо кончался. Его везде мало клали, рискуя испортить заготовки. «Ничего, – успокаивала себя и родных Елена Ивановна, – я накажу ребятам, чтобы сладости ели сразу, а варенье переваривали».
Лиза поражалась энергии и неутомимости этой уже далеко не молодой женщины. Как простая крестьянка, она целый день крутилась по хозяйству: доила коз, кормила кур и кроликов, пропалывала огород. Особенно Лизе нравилось, когда она, собрав вместе кур, выводила их за ворота «погулять на свежую травку».
Высокая, с прямой спиной и палкой в руке, как часовой на сторожевой башне, она зорко следила за своими питомцами, громко цыкая на них и размахивая палкой, если они отходили слишком далеко.
Вечером, казалось бы, можно успокоиться, но нет. После ужина все оставались в столовой-гостиной, читали вслух книги, музицировали. С Олесей Елена Ивановна разговаривала на французском и немецком языках, так она воспитывала в свое время всех сыновей.
Николаю было жаль, что он разминулся с Ильей и Ваней. Братья провели в Ромнах две недели каникул и быстро уехали, так как устроились работать в студенческую трудовую артель. Наверняка они там жили впроголодь, но оба были гордые и в письмах ему в Харьков писали о чем угодно, только не о своих трудностях.
Один только Сергей упорно молчал. Он был членом Екатеринославского губернского комитета РСДРП(б), куда, как Николай знал от местных анархистов, входили Дима Ковчан и Нина Трофимова. Все бывшие соратники собрались в родном городе, даже Григорий Иванович Петровский вернулся в родные пенаты, тоже входил в партийный комитет, был гласным городской думы и председателем её большевистской фракции, а также членом Предпарламента – совещательного органа при Временном правительстве.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ
Глава 1
Пролетка медленно двигалась по улицам Москвы. Мелькали красивые здания, храмы, лавки, кофейни с заманчивыми вывесками: «Лучшие в мире пирожные», «Рагинский. Кулебяка с осетриной» «Пальчики оближешь», «Обжорка на Покровке».
– Барин или, как вас там, сударь, – обернулся извозчик к своему седоку, – вы, наконец, скажете, куда вас везти?
– До Сретенки далеко? – Николай никак не мог решить, куда ему ехать: к Володе домой или в Дом анархии на Малую Дмитровку. Конечно, сначала хорошо бы заехать к Володе, привести себя в порядок, а потом уже заниматься делами, но Володя в это время был на работе; терять полдня в разговорах с его женой, с которой они еще не были знакомы, ему не хотелось.
– Или до Малой Дмитровки?
– Это, смотря, как ехать. Только прикажите – мигом доставлю.
– А Красная площадь?
– Тут все рядом.
– Тогда везите меня на Красную площадь.
– Вы барин, видать, в Москве-то первый раз?
– Можно сказать, первый, бывал только проездом.
– На провинциала вроде не похожи. Из Питера или еще откуда будете?
– Я из украинского города Ромны, но был и в Швейцарии, и во Франции, и еще Бог знает где. Однако скажу вам, лучше нашей России ничего нет.
– Так чего же в ней хорошего? Ироды сбросили царя, разогнали полицию, ни порядка нет, ни уважения к людям. Есть нечего: не то, что человеку, лошади. Я, считай, как царя-то сбросили, третью лошадь поменял. И эта скоро с голоду сдохнет, вон, как бока провалились. Вы уж, барин, за разговор-то наш душевный подбросьте еще полтинничек. Как говорится, без гроша и Москва – вша.
– Подброшу. Вы сами вроде не старый. Шли бы на завод или фабрику. Там больше заработаете.
– Вот и видать, барин, что вы давно в России не были. У нас, считай, половина заводов и фабрик стоит. Я вот сейчас кучером заделался, на самом деле я – столяр-краснодеревщик, делал мебель на заказ. У меня в клиентах князья и графы ходили, сам князь Гагарин со мной за руку здоровался. Теперь наша мебель никому не нужна. А ведь таких мастеров, как у нас были, еще поискать надо. Есть в нашем деле такие тонкости, что не каждый с ними справится. А вот спроси меня, в чем секрет? Словами не объясню. Нутром чувствую: это надо так делать, а это – так. Другой туда же смотрит и не видит, потому что нет у него этого понимания.
– Это вы верно заметили. В любой работе нужен творческий подход.
– Вы мне, барин, ответьте еще на такой вопрос: почему все наши господа обрадовались, что царя скинули, иные так до сих пор ходят с красными бантами? Свобода свободой, а им-то сейчас стало хуже, рабочие на заводах своевольничают, крестьяне у помещиков землю отымают, именья жгут…
– Поддались общей эйфории. Всем надоела война, ложь, обман. Думали, что Николай II уйдет и все изменится, наступит общее благоденствие, ан нет: стало еще хуже. Многие бы хотели вернуть все назад, да обратного хода нет.
Выехали на оживленную площадь. Извозчик стеганул кнутом свою отощавшую лошадь, и та боком, боком, обогнув сквер с памятником, пошла куда-то вниз, как оказалось, к Москве-реке. От открывшейся там панорамы у Николая захватило дух: на этом и особенно на том берегу реки сверкали золотые купола церквей, а справа, совсем рядом, виднелся знакомый по картинкам Храм Василия Блаженного и Кремль.
– Зарядье, – сказал кучер, довольный тем, что доставил удовольствие приезжему человеку, – на той стороне, правее – Замоскворечье, царство купцов.
– Знал, что Москва – белокаменная да златоглавая, но никогда не думал, что может быть такая красота.
– Небось, лучше, чем в Париже?
– Куда там, – улыбнулся Николай.
Он всегда это любил: храмы, колокольный звон, крестные ходы, церковные праздники и обряды, как часть русской жизни, тесно связанной с ее культурой, музыкой, литературой, живописью. Вот и сейчас за кремлевской стеной раздался радостный перезвон церковных колоколов, призывавших людей к праздничной службе – сегодня, как просветил его извозчик, был Покров Пресвятой Богородицы. И музыка эта напомнила ему финал из какой-то оперы: то ли «Бориса Годунова», то ли «Жизнь за царя».
– Ах, хорошо играют, – повернулся к нему извозчик, тоже наслаждаясь колокольным перезвоном. – Ты вот, что, добрый человек, видишь на углу трактир, там у меня есть знакомый половой, быстро нас обслужит. Чаек можем попить, с горячими бубликами, – сказал он, рассчитывая, что у его седока, как у всех людей, приехавших из-за границы, водятся деньжата, и он его угостит.
– Лучше давайте я тут расплачусь и пройдусь пешком, – сказал Николай, доставая из внутреннего кармана пальто портмоне. – Дмитровка, говорите, близко?
– Рукой подать. С Красной площади выйдете на Тверскую, дальше прямиком до Страстного монастыря и налево.
Николай от души накинул ему лишний рубль.
– Премного благодарен, барин, не обидели рабочего человека, – обрадовался тот, низко кланяясь и придерживая рукой рваный картуз.
Ох, и хорош же был Собор Василия Блаженного! Николай два раза обошел его, любуясь архитектурой и ярко расписанными витыми и резными куполами – как в сказке о Золотом петушке. Где-то рядом должно быть Лобное место. Лоточник с пирожками указал ему на толпу людей. Там шел митинг. Взобравшись на чугунный камень, где в далекие времена проходила казнь государевых изменников, стоял солдат в распахнутой шинели и, разрубая воздух правой рукой, как кузнечным молотом, кричал:
– Мы три года в окопах сидели, вшей кормили, ради чего спрашивается: чтобы с голоду теперь подыхать? Подождите, говорят, Учредительного собрания, оно все решит… Оно, что ль, нас хлебом накормит? Кричат: «Свобода! Свобода!», а на кой хрен она нам нужна, если жрать нечего. Царя спихнули, а сами не знают, что дальше делать. Продали душу дьяволу.
Мысли солдата метались, как осенний ветер. Николай отправился дальше. Охватившее его волнение, когда он вступил на это историческое место, исчезло. Площадь жила своей шумной и суетной жизнью. Мчались автомобили и повозки, гремели трамваи, народ не шел, а бежал в ту и другую стороны, толкая друг друга и наступая на ноги. На стенах торговых палаток висели потрепанные объявления Временного правительства, Городской думы, Совета депутатов. Никто на них не обращал внимания.
У ворот в конце площади и соседнего собора на земле лежали и сидели безногие инвалиды и нищие. Между ними, вглядываясь в их лица, ходил милиционер. Картина была настолько удручающей, что Николай невольно замедлил шаг. «Мертвых ищет, – сказал остановившийся рядом с ним мужик, торговавший сахарными петушками. – Вчерась вот также мертвую женщину с младенцем нашли».
Еще больше его поразило огромное количество детей, с криком и хохотом носившихся между прохожими, заставляя их испуганно шарахаться в стороны. И хохот у них был какой-то неестественный, животный, как бывает, когда человека насильно щекочут, и он впадает в истерику.
В толпе послышался женский крик:
– Украли. Сумку украли. Держите их.
– Вот они, двое, да ловите же их, – закричала другая женщина Николаю, около которого как раз в этот момент пробегали двое подростков. Ловко подставив одному из них ногу, он схватил мальчишку за воротник пальто.
– Дя-де-нька, отпустите, – захныкал тот, размазывая слезы по чумазому лицу. – Я ничего не делал.
Их окружила толпа, пропустив вперед потерпевшую женщину и милиционера. Парня обыскали, но ничего не нашли.
– Поди, теперь, сыщи, – ухмыльнулся продавец петушков. – Успел передать другим. У них тут целая шайка орудует.
– А этого теперь куда? – указал Николай на парня, перешедшего от него в руки милиционера.
– Известно куда: в приют. Их там кормят и одевают.
– Они оттуда все равно сбегают, – пояснил другой мужик, продававший из-под полы часы на золотой цепочке, явно ворованные. – Там их бьют, а здесь – свобода. Сироты! Все проклятая война. Барин, – обратился он к Николаю, надеясь, что своим разговором расположил его к себе, – купите часы, принадлежали князю Гагарину. Отдаю почти даром, замерз тут гуляючи.
– Спасибо. У меня самого часы лучшей швейцарской марки, – прихвастнул Николай, чтобы мужик отстал от него, и направился к воротам.
Дальше уже шел, нигде не останавливаясь и ни на что не отвлекаясь – будет еще время все осмотреть, пока не оказался у стен Страстного монастыря и не нашел слева нужную ему улицу. Вскоре он уже входил в подъезд большого серого здания с колоннами – Дом анархии, в котором находился Совет Московской федерации анархических групп, возглавляемый его старым другом Леней Туркиным.
– Вы к кому, товарищ? – остановил его в холле охранник.
– Мне к Туркину или Бармашу.
– Бармаш только что ушел, Туркин на месте. Сейчас доложу ему.
Подойдя к висевшему тут же на стене телефону, он, не торопясь, набрал номер и, изложив суть дела человеку на том конце трубки, вежливо сказал Николаю:
– Пройдите на второй этаж, 25-я комната. Товарищ Туркин ждет вас.
Но Леня сам уже спускался по широкой мраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, увидел Николая и налетел на него с объятьями.
– Наконец-то объявился. Я знаю, что ты в России давно, почему до сих пор не написал?
– Не поверишь: по дороге в Ромны украли чемодан, где лежала тетрадь со всеми адресами. А в федерацию? Все думал добраться сюда самому и вот я здесь, … прямо с вокзала. Телеграмму мою получил?
– Получил и подыскал тебе помещение, чтобы вы с Лизой переезжали в Москву, а не сидели на Украине.
– Вам-то зачем я нужен? Тут у вас и так полно народу.
– Ты хорошо знаешь производство, умеешь найти подход к рабочему человеку. Нам такие люди, вот как нужны. Мы с тобой обязательно побываем на предприятиях. Кстати, о тебе рассказывал один товарищ с обувной фабрики…
– Новотельнов? Как его фабрика?
– Пока работает, нашли компромисс с хозяевами, но в целом дела с промышленностью в городе хуже некуда.
Наверху было оживленно. По коридору ходили люди, громко разговаривали, курили. В одном месте через открытую дверь виднелись пирамиды с винтовками. Николай замедлил шаг.
– Значит, это правда, что вы организуете отряды Черной гвардии?
– Мы и не скрываем. Готовим на всякий случай, ведь революция еще не закончилась, впереди – новые бои. У большевиков – Красная гвардия, у нас – Черная. Потихоньку дело движется. Нужны люди, нужны деньги, больше всего – военные специалисты. Их-то как раз и не хватает. Но есть отдельные замечательные люди. Вообще у нас тут полно тем для рассказов и романов. Может быть, тебя заинтересуют.
– Нет. Пока для этого нет времени. Ты сам-то стихи пишешь?
– Нет, не пишу, только статьи. Тоже времени не хватает. Вот мой кабинет, – сказал он, останавливаясь перед дверью с медной табличкой «Секретарь Леонид Туркин».
– Ты теперь большой человек, Леня, – улыбнулся Николай, оглядывая огромный кабинет с кожаной мебелью, массивной хрустальной люстрой под высоким потолком и тяжелыми коричневыми портьерами на окнах, пропитанными, наверное, вековой пылью. – Кто же до вас тут обитал?
– Во всем здании был Купеческий клуб. А здесь – то ли биллиардная, то ли буфетная, точно не знаю. Садись и рассказывай о себе.
– Для этого, Леня, не хватит целой жизни. Я же сюда приехал не просто так.
– Знаю. Вы провели конференцию и предложили созвать Всероссийский съезд. Полностью вас поддерживаем. Сами давно об этом говорим. И в Питере поддержат. Там уже собрались все наши: Волин, Раевский, Шатов, Ярчук, Шапиро…
– А Мишель?
– Кто-то говорил, что он живет теперь в Париже и не думает возвращаться. Женился и знаешь на ком, ни за что не догадаешься?
– На ком же?
– Тебе, наверное, будет неприятно… На Андри Бати…
– Действительно, неожиданная новость, – сказал Николай, стараясь подавить обиду на то, что Андри так быстро его забыла и вышла замуж. – Хоть бы передал с кем-нибудь письмо. Про Моисея слышал? Он теперь с большевиками, возглавляет в Павлодаре Совет депутатов.
– Нет, не слышал. Многие и наши, и эсеры переходят к большевикам. Считают, что у них больше шансов совершить новую революцию.
– Глубокое заблуждение. Они скоро в этом убедятся… Маруся Нефедова вернулась. Пьет, курит. Говорит, что жизнь ее сильно побила.
– Вот никогда бы не подумал, – искренне удивился Туркин. – А теперь знаешь, что: идем в редакцию нашей газеты «Анархия» к Гордееву. Марк знает о твоем приезде, хочет, чтобы ты осветил обстановку на Украине.
– А чемодан?
– Оставь тут. Попрошу кого-нибудь занести в общежитие. Тут все рядом.
Николай был наслышан о братьях Гордеевых, Якове и Марке, разработавших новое утопическое направление в анархизме – пананархизм. Марк работал вместе с Туркиным в федерации и редактировал новую газету «Анархия». Одновременно продолжал развивать пананархизм и выделил в нем самостоятельное течение – анархоуниверсализм. Как и Карелин, он писал рассказы, стихи, сказки, разъясняя в них свои довольно туманные мысли и идеи. «Мы допотопные люди, — вещал он устами сказочных героев, — мы верим в чудеса и творим чудеса».
Николай представлял его себе солидным человеком, однако, когда они с Леней вошли в кабинет, из-за стола поднялся маленький, щуплый человечек с прыщавым лицом, весь какой-то неухоженный, но чрезвычайно энергичный. Марк крепко пожал им руки и, не теряя времени, приступил к изучению документов Осведомительного бюро.
– Идею о Всероссийском съезде мы уже поддержали, – доложил он Николаю, закончив чтение. – Проблем с его организацией не будет, проведем в Москве, где-нибудь в конце ноября или декабре. Сейчас садись за стол и пиши статью о положении на Украине, так сказать, из первых рук.
– Дай человеку отдохнуть, – вмешался Туркин, – он с дороги.
– Извините, товарищи, не подумал.
Открыв толстую папку, Марк вручил им стопку талонов, скрепленных скрепкой.
– Идите, пообедайте в нашей столовой. Тут хватит на неделю.
Но Николай решил сначала написать статью и занял за столом место Марка. Гордеев и Леня пересели на массивный кожаный диван и тихо разговаривали, чтобы не мешать ему.
Пришел рабочий из типографии за материалами Осведомительного бюро.
– Постарайтесь их набрать сейчас, чтобы пустить в завтрашний номер, – сказал Марк.
– А вашу статью отложить?
– А ты постарайся и то, и другое. Задержись на обед.
Рабочий ушел. Зазвонил телефон. Сняв трубку, Гордеев стал с кем-то ругаться, старательно приглушая голос, чтобы не мешать Николаю.
– Хозяин здания, – пожаловался он Туркину, закончив разговор, – то и дело увеличивает плату за аренду помещения, опять выставил новый счет. Дождется, что мы его выгоним.
– Пошли к нему пару гвардейцев, сразу станет шелковым.
– Придется, раз не понимает человеческого языка.
Невольно прислушиваясь к их разговору, Николай удивлялся Лёне: как он заметно изменился, даже голос стал жестким.
Часа через полтора статья была готова, и Марк, не читая, отправил ее в типографию. Теперь можно было идти в столовую.
Обед состоял из трех малосъедобных блюд и двух кусков черного хлеба: сырого и кислого. Николай отложил их в сторону, но, увидев удивленный взгляд Лёни, заставил себя насильно проглотить оба куска. Москва голодала и очень сильно. Федерация изыскивала возможность, чтобы усилить своим работникам питание, платить за обеды деньги, которые она зарабатывала издательской деятельностью, чтением лекций в клубах и отчислениями от гонораров за книги. И в Харькове они так же делали.
– Как тебе Марк? – спросил Леня, когда они взяли по второму стакану чая. Его можно было пить сколько угодно: кипяток без сахара, слегка подкрашенный заваркой из сухой моркови.
– Не знаю. По одной встрече трудно судить, а его пананархизм не понимаю и не хочу понимать. Все смешал в одну кучу: терроризм, религию, науку. Знаешь, наверное, есть такой поэт Велимир Хлебников, в его стихах такая же заумь, как у Марка в голове, аж тошнить начинает, когда читаешь: смехачи, смехами, смеянствуют смеяльно… Тебе, как поэту, может прийти такое в голову?
– Они же футуристы. Мяукают, гавкают. Им весело оттого, что издеваются над словом. У нас вообще появилось много изобретателей-фантастов. На днях один товарищ рассказывал мне о способностях человека управлять Вселенной и воскрешать умерших, вроде космизма Николая Федорова. «Все это очень интересно, – говорю я ему, – но причем тут анархизм?» «А притом, – отвечает, – что в основе этих возможностей лежит максимальная свобода личности и её творчества. Благодаря им социальную революцию можно совершить «в межпланетном пространстве». Свою теорию он называет «Биокосмизм». Жюль Верн, да и только. Но к Марку претензий нет, он – хороший оратор, много выступает в клубах и на предприятиях. И газету с Бармашом делают интересную.
– Все эти новые «измы» рассчитаны на интеллигенцию и особенно молодежь, отнимают у нас значительную часть аудитории, наносят вред движению. Прибавь сюда еще Карелина с его тамплиерами. Опять каждый тянет в свою сторону, как в известной басне Крылова.
– Карелин сам твердит об объединении анархистов. И Марк положительно отнесся к идее о съезде.
– Тогда я не понимаю их «измов». Есть теория, а есть практика, и с практикой у нас по сравнению с большевиками и другими партиями серьезный провал. Согласен?
– Согласен, – засмеялся Леня. – И еще вижу, что ты совсем не изменился.
– Если бы изменился, то в Москву приехал бы кто-нибудь другой, а я все еще надеюсь на объединение наших сил.
– Кстати, вспомнил: тут в одной газете был разговор про футуристов. Не попадался?
– Нет. Откуда?
– Редактора спрашивают: «Что такое футурист?» Тот, подумав, отвечает: «Футурист в точном переводе значит «человек будущего». А так как у нас делать это будущее взялись люди отменно тупые, то в русском переводе футурист значит «человек завтрашней глупости». Почему? Потому что футурист никогда ничего умного не даст. А обещанное на завтра – неизменно пошло, грубо и глупо». Точнее не скажешь.
– Конечно, если они «смеянствуют смеяльно».
Леня ушел по своим делам, в редакцию Николай вернулся один. Марка не было, но из типографии уже принесли гранки со всеми его материалами. Он внимательно их вычитал и подождал верстку, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть в «Анархии». Все ему понравилось. Верстальщик умело расположил материалы на развороте и подобрал шрифты к заголовкам.
Ночью газету отпечатают и рано утром развезут по киоскам и подписчикам. У нее был тираж в 20 000 экземпляров. Крупная общественно-литературная анархическая газета, не менее популярная, чем «Голос труда» и «Буревестник» в Петрограде, переместившиеся после революции из-за границы.
Общежитие анархистов, куда его определил Леня, находилось в двухэтажном особняке в Большом Чернышевском переулке – минут пятнадцать ходьбы от Дома анархии. До революции здесь проживало много известных людей, и, как успел ему при знакомстве рассказать старый дворник Петрович, когда-то размещалась масонская ложа. Башенные закругления по бокам дома придавали ему вид средневекового замка, вполне подходившего для тайных собраний и обрядов. С тех пор, наверное, здание претерпело немало изменений, а нынче и вовсе превратилось в коммунальное жилье.
Туркин позаботился – и совсем напрасно, чтобы с учетом большой семьи ему выделили три комнаты (одна большая, квадратная, две другие поменьше и смежные с большой). В квартире обитало еще несколько человек, но никого из них сейчас дома не оказалось.
Из окна кухни виднелись купол и колокольня соседнего собора, откуда как раз в этот момент молодой служка созывал народ к вечерней службе. Было видно, как он раскачивал колокол, и ветер трепал его длинные волосы и платье. Где-то рядом звонили в других церквях, в Страстном монастыре. Звон приходил и из Кремля – его соборов и с колокольни Ивана Великого.
В коридоре на круглом столике рядом с телефоном лежал толстый телефонный справочник. Обрадовавшись, Николай отыскал в ней рабочий и домашний телефоны Володи. Брат оказался на работе и приказал ему немедленно приезжать к ним на Сретенку, иначе они с Леной и мальчиками на него обидятся.
По дороге в трамвае он опять не переставал любоваться Москвой. Миновали один храм, другой, третий, за ним – два монастыря и снова храмы. Казалось, в этом городе были одни храмы и монастыри, а улицы и переулки существовали для того, чтобы по ним переходить из одной церкви в другую. Он так увлекся, что чуть не проехал свою остановку, пропустив объявление кондуктора. Его взгляд остановился на высокой башне с часами. «Это что за башня?» – спросил он соседа справа.
– Сухарева.
– Так это моя остановка, – спохватился Николай, вскакивая с места, – здесь Шереметевская больница?
– Здесь, здесь, – засмеялись над ним пассажиры, – да по сторонам не смотри, а то, неровен час, без пальто и шляпы останешься.
Спустившись по ступенькам вниз, он попал в водоворот огромного рынка, наполненного криками, руганью, неприятными запахами. Кого тут только не было: старухи с каким-то тряпьем, лоточники с сомнительного вида пирожками, заросшие косматые мужики, продававшие из-под полы мутную жидкость, выдавая ее за самогон; жуликоватые личности в надвинутых на глазах кепках высматривали зевак, чтобы залезть к ним в карман. То и дело кто-нибудь дико вскрикивал, обнаруживая исчезнувший из сумки или кармана кошелек. Вокруг потерпевшего сразу начинала кружиться толпа, не давая возможности подойти милиционеру. Когда тот, наконец, оказывался около несчастной жертвы, грабителей уже и след простыл.
На выходе молодая крестьянка продавала белые хризантемы. Только тут Николай спохватился, что нужно купить цветы для Володиной жены Елены. Рядом одноногий солдат при четырех Георгиях, тяжело опираясь на костыль, держал коробку с набором железных солдатиков (с ружьями, пулеметами и пушками). Цена кусалась, но солдат наотрез отказался уступить. Николай отошел от него и опять вернулся, решив, что раз в жизни можно побаловать племянников таким дорогим подарком.
Нужный ему дом он нашел в начале улицы Сретенка и где? конечно, за церковью. Пожилая женщина в очках – вахтер (вроде консьержки), узнав, к кому он идет, любезно сообщила, что Владимир Ильич недавно вернулся из больницы, и явно из уважения к профессору проводила Николая до лестницы.
Братья долго обнимались и тискали друг друга. В коридор вышли Елена и дети. Вежливо поблагодарив Николая за солдатиков, Шурик и Павлик с любопытством рассматривали родного дядю, удивительным образом похожего на их отца. Елена тоже заметила, что они имеют больше внешнего сходства, чем остальные братья, которых она знала, – Михаил и Сергей.
– Ну, вот и познакомились, – сказал Володя. – Теперь идемте в столовую, будем пить шампанское и есть пироги. У нас, Коля, есть чудесный человек, тетя Паша. Она печет замечательные пироги.
Кроме пирогов, Пелагея Трофимовна или тетя Паша, как все в доме – и дети, и взрослые называли прислугу, служившую у них еще с довоенных лет, наварила борщ, налепила вареников с вишней и творогом, приготовила настоящий кофе из зерен, какого Николай, пожалуй, не пил с тех пор, как уехал из Парижа. От такого обилия еды он отяжелел, осоловел и не способен был не только двигаться, но и вести беседу с Еленой, забросавшей его вопросами о Лизе, дочке и всех домочадцах в Ромнах. Все это ее мало интересовало, но ей хотелось показать себя еще перед одним близким родственником мужа внимательной и заботливой женой. Когда все темы для разговора были исчерпаны, Елена увела мальчиков спать, а братья перешли в Володин кабинет.
– Теперь мы с тобой будем разговаривать, пить кофе и коньяк, – весело сказал Володя, доставая из стола бутылку армянского коньяка. – Сейчас принесу с кухни закуску.
– Красиво живешь, – не удержался Николай от восхищения, когда перед ними появился поднос с пирогами, копченой колбасой, нарезанной тонкими кусками, и кофейником.
– Все-таки учти, я неплохо зарабатываю, и мы можем пользоваться рынком. Ну, а шампанское, которое пили за столом, и этот коньяк – приношения пациентов. Сколько не борюсь с этим, умудряются оставлять их в мое отсутствие. Я обычно все отдаю сестрам и нянечкам, на сей раз решил побаловать тебя. Этот коньяк достался от одного купца. История тривиальная, как раз для твоих рассказов. Бедолага изменил жене. Та, узнав об этом, решила застрелиться и разворотила себе полчерепа. Купчина привез ее к нам. Дамочку удалось спасти… Отсюда коньяк и все остальное. У богатых людей много чего осталось в закромах… Ешь, ешь, не стесняйся и кофе пей, ты его любишь. Что будет дальше с Россией, как ты думаешь?
– Трудно сказать. Временное правительство с самого начала было ни на что не способно. Народ устал от войны, от всей этой неразберихи и беспорядков… Того гляди взорвется.
– А Учредительное собрание? Все о нем говорят и ждут, даже большевики…
– Анархисты против него. Одна власть сменит другую, все останется на прежнем месте. На Украине вообще не пойми, что творится. Цены растут, в магазинах очереди, как в Москве. В Харьков езжу со своими продуктами. В общественной столовой дают скудные обеды. Здесь в федерации по талонам выдают обед с прозрачным супом и кислым, сырым хлебом.
– Я бы вас всех перетащил в Москву. В такое время надо быть вместе, а нас разбросало по всему свету.
– Серега мне не пишет, сердится на то, что я стал анархистом… Даша опять беременна.
– Это они зря. Можно было на троих остановиться. Время сейчас неподходящее.
– А я отчасти рад, что мы живем в такое время. Для меня это богатый исторический материал… Володя, не обижайся, но мне пора.
– Я думал, ты у нас останешься, ты совсем спал, и ночь на дворе. В Москве в это время небезопасно…
– Дел много. Хочу тут побывать на заводах и посмотреть, чем живут рабочие в центре России. Лиза с мамой не знают, что я поехал в Москву. Так что и вы с Леной не проговоритесь. Лишние волнения им ни к чему.
– Надеюсь, ты еще заедешь, хотя бы перед отъездом. Передам тебе деньги и подарки для всех. Где ты остановился?
– Мне выделили помещение в Большом Чернышевском переулке, рядом с Тверской. Там есть телефон. Приеду, продиктую номер.
– Звони каждый день. Если бы ты знал, чертяка, как я рад тебя видеть.
ГЛАВА 2
Недалеко от трамвайной остановки в судорогах билась лошадь. До этого она кое-как бежала, подгоняемая вожжами и криками кучера, но тут резко остановилась, тяжело всхрапнула и, оглянувшись по сторонам, как бы ища у людей помощи, сначала присела на передние ноги, затем повалилась набок, путаясь в постромках и ломая оглобли. Возница успел соскочить, и теперь, пытаясь ее поднять, гладил по голове и ласково уговаривал:
– Вставай, милая, вставай, кормилица. Приедем домой, насыплю тебе овса, да самого лучшего, отборного.
Вокруг быстро собрались зеваки.
– Раньше надо было кормить, – назидательно сказал какой-то пожилой мужчина в шапке-пирожке, – а не доводить бедное животное до такого состояния. Мучается оно, не видишь что ли?
– Что же мне делать? – еще больше огорчился кучер. – Ветеринара бы, чтобы укол сделал, да где его теперь найдешь.
– Э, милый, – деловито сказала женщина в шерстяном платке, сильно изъеденном молью. – Ветеринар с тебя денег затребует. Самому бы ноги не протянуть. Милиционера поищи, он знает, что делать.
Порывшись в сумке, она вытащила из глубины несколько монет и протянула кучеру. Другие тоже, жалея несчастного, совали ему в руку и карманы монеты, кто сколько мог. Такова душа русского человека – в трудную минуту отдаст последнее. Извозчик благодарил людей, проявивших неожиданную доброту, крестился и кланялся, не зная, что делать дальше. Лошадь тяжело дышала открытым ртом, на грязный снег стекала розовая пена.
Мимо проходил Николай Даниленко. Он видел, как упала лошадь, и хотел продолжить путь, так как такие сцены постоянно происходят на московских улицах, но узнал в кучере старого знакомого, который вез его с вокзала в день приезда в Москву. Подойдя к нему, сочувственно похлопал по плечу:
– Что, дружище, последний свой заработок потерял. Что теперь делать будешь?
– А, это ты, парижанин! Вот люди добрые набросали деньжат, пойду, напьюсь и – в Москву-реку. Куда ж еще?
– Нет, так дело не пойдет. Спрячь свои деньги в карман, они твоим детям пригодятся, хлеб им купишь. Я дам тебе записку, пойдешь с ней на обувную фабрику «Витязь». Там тебя пристроят.
– Ходил я туда, меня и слушать не хотели.
– Сходи еще раз.
– Какой ты ловкий: уже и в начальники выбился!
– Никакой я не начальник. А вот Алексей Афанасьевич Новотельнов, к которому я тебя направляю, уважаемый человек и смотри, не подведи меня. Если что, приходи в Дом анархии на Малую Дмитровку. Там подскажут, где меня найти.
– Так, значит, ты бандит?
– С чего ты взял?
– В газетах пишут, что анархисты – бандиты, воруют, убивают.
– Ты, сударь, не те газеты читаешь, – рассердился Николай. – Я тебе записку дал, так иди по ней, а не хочешь, так иди, топись, кажется, ты к Москве-реке собирался.
– Да пойду я к твоему Новотельнову, пойду. Ну, если он бандюгой окажется, найду тебя в этом Доме анархии и ребят приведу.
– Смотри, как расхрабрился. Ребят приводи, только не для разборок, а на лекцию. Там вам расскажут об анархизме и книги дадут почитать.
– У меня лошадь подыхает, а он мне про анархизм мозги пудрит. Лучше помоги милиционера найти.
Николай привел с соседней улицы милиционера и, не оглядываясь, быстро зашагал дальше. Район ему был знаком. Здесь находилось несколько крупных предприятий, где активно действовали фабрично-заводские комитеты. Воспользовавшись приездом в Москву, он интересовался их работой и развитием анархо-синдикалистского движения в городе. Однако сейчас по просьбе товарищей с завода «Русский кабель» спешил на заседание суда, который должен был состояться в здании кинотеатра «Атлет».
История, произошедшая на этом заводе, была сейчас в Москве обычным делом. Хозяева, возмущенные тем, что рабочие брали власть в свои руки, лишая их собственности, в отместку портили оборудование, устраивали поджоги, воровали сырье и материалы. Здесь тоже три инженера и двое рабочих, проникнув ночью в цех силовых кабелей, вывели из строя подъемные краны.
Вредителей вряд ли бы нашли, если бы не рабочий Василий Шумейко. На обратном пути к тайному лазу в заборе тот увидел мешки с углем, отстал от всех и взвалил на спину крайний мешок. Его заметили сторожа, обходившие в это время территорию завода. Вора задержали и посадили под замок. Утром рабочие обнаружили диверсию в цехе и допросили Василия. Тот долго изворачивался, клялся и божился, что не понимает о чем идет речь, затем, не выдержав укоряющих взглядов товарищей, во всем признался и назвал всех подельников.
Заводской комитет хотел сам с ними разобраться, но районный Совет депутатов заставил передать дело в суд: совершено государственное преступление, и вредителей следует наказать по закону. Мало того, председателю Совета депутатов Чевкунову, бывшему инструментальщику с завода братьев Бромлей, большевику, пришла в голову мысль провести заседание суда в виде открытого показательного процесса, пригласив на него людей с других предприятий, «чтобы и им неповадно было заниматься подобными делами».
Предполагалось, что, кроме законного представителя обвинения – прокурора, будет еще общественный обвинитель – со стороны рабочих завода, а в ходе заседания любой человек сможет взять слово. Главный судья был против и самого показательного процесса, и тем более общественного обвинителя и выступлений из зала, но Чевкунов решительно заявил, что этого требует революционная обстановка. «У нас теперь свой, справедливый суд. Для нас важно мнение рабочих, а не присяжных заседателей», – сказал он ошарашенному судье, и тот вынужден был уступить его требованиям. Для заседания суда выбрали помещение соседнего кинотеатра «Атлет», куда и направлялся теперь Николай.
У входа в кинотеатр его ждал председатель завкома Сергей Петрович Лапигин.
– Опаздываете, Николай Ильич, – сказал он с укоризной, приплясывая от холода. – Все уже собрались.
– Тут недалеко с одним знакомым история приключилась, пришлось помочь. Как подсудимые себя ведут?
– Инженеры молчат. Михеев и Шумейко чуть не плачут, клянутся, что исправятся. Черт их, видите ли, попутал. Шумейко грозит повеситься, если его упекут в тюрьму. При царизме, говорит, судили, а теперь свои же товарищи решили предать позору при всем честном народе.
– Вы должны помочь их семьям. Людьми двигало отчаянье.
– Если так рассуждать, то всем можно воровать.
– Я говорю не про воров, а про их семьи.
– Ох, и правильный же ты человек, Николай Ильич!
Зал был рассчитан на 150 человек, но народу собралось столько, что негде было не только сидеть, но и стоять: люди толпились в коридоре и на лестнице, самые «шустрые», работая локтями и получая со всех сторон тумаки, пролезали вперед, чтобы посмотреть на судей и саботажников, как официально назывались подсудимые. Лапигин и Николай с трудом пробрались во второй ряд, где их ждал Леня Туркин.
Впереди за столом восседали трое судей в строгих еще царских мундирах. Для главного судьи раздобыли где-то стул с высокой спинкой. Вид у него был злой и недовольный. На экране, закрытом темными шторами, висел плакат: «Позор саботажникам и диверсантам!»
Специальным извещением на заседание вызвали главного инженера и главного механика. Оба сидели в первом ряду, стараясь избегать недружелюбных взглядов рабочих.
В качестве общественного обвинителя выступал механик завода, анархист Тимофей Катырин, речь которому подготовил Николай. Тимофей и сам был неплохой оратор, но обычно так увлекался, что забывал о заданной теме и уходил далеко в сторону. Николай отпечатал ему речь на машинке и просил не выпускать из рук.
Зал гудел, обсуждая сроки наказания для подсудимых. В отношении инженеров все было ясно: отправить на каторгу, чтобы знали, как портить общественное имущество. По поводу рабочих мнения разделились. Одни считали, что их тоже надо отправить на каторгу, другие понимали, что они пошли на «грязное дело» из-за проклятой нужды и голода – у Шумейко недавно умер маленький сын. Последние просили Катырина смягчить обвинение, оставить Василия и Степана на заводе под их ответственность.
Тимофей твердо стоял на своем. «Сегодня, – убеждал он товарищей, – они сломали подъемные краны, завтра подожгут завод. Эта «вражина» самая опасная, так как предает своего брата рабочего».
«Вражина» сидела, опустив голову. Шумейко до слез было обидно, что, польстившись на мешок угля, он подвел своих подельников, потерял обещанные деньги, и теперь загремит в тюрьму в то время, как его семья находится в ужасном положении. Перед глазами стояли печальные глаза маленького сына, умиравшего на руках обезумевшей от горя жены.
У подсудимых были три адвоката, нанятых хозяевами. Истец, то есть завком, считал дело настолько ясным и очевидным, что не собирался никого приглашать для защиты. Однако Туркин подключил к этому делу знакомого адвоката Мамаева. Тот побывал несколько раз на заводе и провел свое собственное расследование.
Адвокаты и прокурор – представительный господин в очках, сидели за разными столами с правой стороны от сцены. За их спинами на стенах висели оставшиеся от прежних времен картины с фривольными сюжетами, которые в другое время вызвали бы у людей шутки и смех, но сейчас на них не обращали внимания. Напротив них на лавке, охраняемые милиционерами, сидели подсудимые.
Заседание длилось долго. Сначала опрашивали свидетелей. Их оказалось немало: мастера, рабочие, сторожа, грузчики. Неожиданно для зала адвокаты стали доказывать, что краны в цехе работали плохо, и инженеры вместе с рабочими вышли в ночную смену, чтобы заняться их ремонтом, а заодно проверить и другое оборудование.
Казалось, их доводы перевесили чашу правосудия в сторону обвиняемых, но тут слово взял Мамаев и, ссылаясь на добытые им сведения и документы, заявил, что в целях экономии все последнее время и в указанные дни электричество по ночам в цехах отключалось так, что технические работы там проводиться не могли. Вызванная им в качестве свидетеля уборщица показала, что, когда она в тот день утром пришла в цех, на полу и лестнице, ведущей наверх, к кранам, были следы от свечей (капли воска), которыми «вредители» пользовались для освещения.
Также выяснилось, что летом краны прошли капитальный ремонт и работали хорошо. Прижатые к стенке, главный инженер и главный механик сидели, опустив головы. Лица адвокатов потускнели: Мамаев полностью расстроил выстроенную ими линию защиты; состав преступления был налицо. Тогда один из них, Корох, быстро перестроил тактику и стал доказывать право хозяев на собственность и неправомерность рабочих вмешиваться в управление производством, отстранять от работы инженеров и служащих.
В его руках появились справки о снижении зарплаты инженеров (у рабочих она, наоборот, выросла), резком повышении цен в Москве на все товары и продукты. Еще две справки подтверждали болезнь одного из инженеров из-за недоедания (во что трудно было поверить, глядя на его упитанное, розовощекое лицо) и болезнь жены другого инженера по той же причине. И, наконец, суду представили Свидетельство о смерти сына Василия Шумейко – «трехлетнего невинного ребенка», умершего от голода; та же участь ожидает и других его детей, проживающих в крайней нищете. Адвокат говорил так убедительно, что кто-то из женщин громко всхлипнул. Настроение зала резко изменилось.
Слово предоставили прокурору. Поправляя то и дело сползавшие на нос очки, он говорил долго и нудно, заявив под конец, что саботаж в военное время приравнивается к государственной измене и может караться смертной казнью, которую Керенский ввел на фронте (здесь зал ахнул: смертной казни этим людям никто не желал, только справедливого наказания). Всем пятерым он предложил дать по пять лет тюрьмы.
Настала очередь Катырина. Тимофей нарочно оставил на стуле написанный для него текст и, продолжив мысль прокурора о саботаже буржуазии, стал перечислять преступления буржуазии, о которых регулярно сообщали газеты. Затем призвал немедленно обсудить во всех заводских коллективах вопрос о переходе промышленных предприятий в руки рабочих. Главный судья, выполнявший одновременно обязанности секретаря, недовольно потряс колокольчиком:
– Прошу прекратить агитацию. Вы на суде, а не на митинге. Ваши предложения по поводу подсудимых?
– Инженерам, как организаторам диверсии, дать по пять лет, а рабочим, поддавшимся их злым умыслам, – Тимофей замялся, выбирая между двумя и тремя годами, и твердо сказал, – по три года лишения свободы.
Когда он сел, главный судья с облегчением вздохнул, надеясь на этом поставить точку, но тут из зала какой-то человек выкрикнул, что просит слово. Его усиленно приглашали вперед, однако он вскочил на стул и громко заговорил, размахивая правой рукой.
– Я, господа, тоже инженер, только с другого предприятия. Что же это получается? Как я понял, адвокат Мамаев представляет здесь заводской комитет. А кто такие эти люди? Те же бандиты, преступники, злоумышленники, которые, возомнив себя хозяевами, отняли у настоящих владельцев их собственность и теперь правят балом, пытаясь предъявить законным хозяевам незаслуженные обвинения.
Послышались свист и улюлюканье. Люди вскочили с мест, чтобы рассмотреть говорившего.
– Какой он инженер? Провокатор.
– Его подослали хозяева.
– Хозяйский холуй. Сколько тебе заплатили денег, признавайся?
Судья усиленно тряс колокольчиком, призывая к тишине и порядку.
– Человек дело говорит, – закричал кто-то в другом месте, стараясь перекрыть шум зала. – С каких это пор чернь устанавливает на заводах свои порядки (при слове «чернь» зал буквально взревел)? Есть власть – Временное правительство, извольте ему подчиняться.
– Ваше правительство давно прогнило.
– Нашел, кого вспомнить.
– Ему говорят — стрижено, а он — брито.
Выступающий не сдавался.
– В господа заделались, денежки себе в карман кладете, – с яростью выкрикивал он. – Вас самих разбойников надо судить, и, как делали при Столыпине, – без суда и следствия вздернуть на виселице.
К ораторам с разных сторон пробирались дружинники, но те успели раствориться среди людей в проходе.
Когда, наконец, все успокоились, и наступила тишина, слово предоставили подсудимым. Инженеры, довольные выступлениями неожиданных заступников, отказались говорить. Рабочие каялись перед товарищами, прося их и судей проявить к ним снисходительность.
Судьи вышли в соседнее помещение и быстро вернулись, решив всем пятерым дать по три года тюремного заключения. Зал возмущенно загудел, недовольный сроками для инженеров. Судьи и платные адвокаты быстро исчезли. Арестованных увели к милицейской машине, ожидавшей у входа кинотеатра. Мамаев, сославшись на важные дела, тоже заторопился к выходу.
– Пойдемте на завод, – предложил Лапигин Туркину и Николаю. – Здесь рядом. Есть разговор.
Завод оказался огромным: за проходной тянулись длинные в два и три этажа корпуса с широкими окнами. Чтобы попасть в комнату, где обосновался завком, надо было пройти через цех, напомнивший Николаю цеха на его заводе в Париже. Гремели станки, крутились огромные катушки, на которые наматывались провода; под высоченным потолком бегали кабинки подъемных кранов. Людей было мало. Изредка к ним подходили рабочие, интересуясь, как прошел суд.
– Нормально, – отвечал Сергей Петрович, пожимая людям руки. – Завтра все узнаете на собрании.
– А все-таки, как не хотят нас сломить, – довольно говорил он Николаю и Туркину, – завод работает, люди исправно получают зарплату.
На месте их ждали члены завкома. Тимофей Катырин тоже был тут, радостно улыбаясь: он остался доволен своей речью.
– Сейчас немного перекусим, – сказал Лапигин, – и – к делу.
В углу на керосинке шумел чайник. На столе стояли тарелки с отварной картошкой, соленьями, черным хлебом, две бутылки молочно-белого самогона – обычная сейчас еда и выпивка у тех, кто был связан с деревней.
– Не обессудьте, товарищи: чем богаты, тем и рады, – сказал Лапигин, по-хозяйски наливая самогон в стаканы. – Что же, в целом суд прошел хорошо, несмотря на небольшие накладки. Он послужит серьезным уроком для других.
– Провокаторы все дело испортили, – посетовал кто-то. – Больно много их развелось. Ладно там инженеры, а то и рабочие туда же лезут. Обидно…
– Мы считаем всех своими людьми, советуемся с ними, а листки с критикой комитета кто-то постоянно разбрасывает.
– Это неизбежно, раз у нас есть представители всех партий, – пояснил Лапигин, умный, грамотный мужик. – Каждый говорит о своем, стараясь перетянуть людей к себе.
– Большевики открыто готовятся к вооруженному восстанию, формируют отряды Красной гвардии. Говорят, Ленин назначил его на день открытия II съезда Советов. Вы что-нибудь слышали об этом, товарищи? – вопрос относился к Николаю и Лёне.
– Слышали, – сказал Туркин, отставляя в сторону стакан и тарелку. – На днях приезжал из Петрограда наш товарищ Игнат Кушелевич. Там идет серьезная борьба между большевиками, другими партиями и ВЦИК. Многие категорически против того, чтобы восстание начинать сейчас, хотят дождаться Учредительного собрания. Ленин рассчитывал держать решение ЦК в тайне, но среди большевиков тоже нет единства. Зиновьев и Каменев выступили против восстания и изложили свою позицию в меньшевистской «Новой жизни». Оттуда и пошла вся информация.
– Вот предатели. И зачем их Ленин держит?
– Пожалела овца волка.
– Товарищи, тише, – остановил их Лапигин, – потом будем острить. Что думают об этом в федерации?
– Что тут думать? – сказал Туркин. – Цели у нас с большевиками общие, если они начнут, мы их поддержим.
– Отряды создать не трудно, только, где взять оружие?
– Пусть даст федерация. В Доме анархии его полно.
– Откуда вы это взяли? – удивился Лёня. – Его надо брать у солдат в гарнизонах, как это делают большевики. Они давно вооружились там по полной программе, и везде внедряют своих людей.
– Мы большевикам поможем, а они установят свою власть. Нам их диктатура не нужна, – сказал Катырин.
– Мы поддерживаем не их власть, а их цели, – возразил ему Николай, – Лёня правильно говорит, они у нас общие. Кстати, в Москве большевики тоже выступают против восстания, так что неизвестно, как еще здесь все сложится. Да и другие партии их не поддержат.
– Товарищи, – прервал разговор Туркин, – нам пора уходить. Кушелевич привез из Питера анархистские газеты и прокламации. Я захватил часть из них. Раздайте их по цехам, а рабочим расскажите о нашей беседе…
На их счастье быстро подвернулся извозчик. Лошадь, видимо, получившая недавно хорошую порцию овса, быстро затрусила по каменной мостовой. Разморенный самогоном, Лёня заснул. Николай думал о том, что пора возвращаться домой, всех дел тут не переделаешь, а данное Лизе обещание приехать ко времени ее родов надо сдержать. На счет Всероссийского съезда москвичи твердо высказались за то, чтобы провести его в Москве в декабре. Питерцы их поддержали. Это подтвердил и Кушелевич. Ехать туда не имело смысла. Однако если большевики устроят восстание, все может сорваться. До чего же Ленин упертый, не считается ни с чьим мнением! Рвется к власти, когда Россия находится на грани полного краха.
За этими мыслями он тоже незаметно уснул. Извозчик с трудом разбудил их, когда они въехали в Большой Чернышевский переулок.
– Эка вас развезло, господа хорошие, – весело подмигнул он, смотря на их заспанные лица. Лёня, как маленький, сладко зевал и усиленно тер глаза. – Кто тут сойдет, а кого дальше везти?
– Я здесь сойду, – сказал Николай и спросил Лёню, – ты как?
– Голова трещит, вот что значит давно не пил, – однако не забыл спросить, – статью в «Анархию» напишешь?
– Напишу. Все равно в тетрадь буду записывать. Хотел тебе напомнить, что мне пора ехать домой. Получу от Гордеева доклад и уеду.
– Очень жаль. Завтра зайди ко мне, все обсудим.
Дома в дверях Николай нашел записку от Петра Остапенко. Петр упрекал его в том, что он давно не звонил и не побывал в его театре, как обещал. Теперь у него новый круг творческих людей, с которыми Николай должен обязательно познакомиться. Если в воскресенье он не придет по указанному адресу, то он серьезно обидится. Старые друзья так не поступают.
«Что еще за творческие люди? – усмехнулся Николай, удивляясь способности Петра постоянно увлекаться новыми людьми и идеями. – Придется идти, раз обещал. После этого сразу домой».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЕЩЕ ОДНА РЕВОЛЮЦИЯ
ГЛАВА 1
В среду 25 октября из Питера в Москву пришло ошеломляющее известие: питерские большевики все-таки устроили вооруженный переворот и захватили власть. Временное правительство арестовано. В этот же день ночью на заседании II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов избрано новое правительство – Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Приняты важнейшие документы: Декреты о мире и земле. В первом содержится обращение ко всем воюющим народам и их правительствам немедленно заключить перемирие и начать переговоры о справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуций. Второй декрет отменил частную собственность на землю, объявив ее всенародным достоянием.
Москва пришла в движение. Московские большевики, еще недавно настроенные против вооруженного захвата власти, вынуждены были подчиниться настроению масс и оперативно создать Военно-революционный комитет под руководством Усиевича, члена Московского комитета РСДРП (б).
В свою очередь Московская городская дума организовала Комитет общественной безопасности во главе с городским головой эсером Рудневым и командующим войсками Московского военного округа полковником Рябцевым. В их распоряжении оказалось около 20 тысяч человек. Это были скопившиеся в Москве офицеры, юнкера из военных училищ (Александровского и Алексеевского) и школ прапорщиков, отряды студентов и гимназистов, формировавшиеся буквально на ходу. С военных складов им выдавали шинели, оружие и бомбы. Защитники Отечества на рукавах носили белые повязки и в противовес красногвардейцам называли себя белой гвардией.
Выйдя на следующий день из своего переулка на Тверскую, Николай Даниленко был поражен тем, что там творилось. Вверх и вниз непрерывным потоком шли люди, никем не управляемые и охваченные каким-то восторгом, граничащим с безумием. Одни кричали и пели, другие охрипшими голосами дружно скандировали: «Долой Временное правительство!», «Вся власть – Советам!»
Около бывшего Дома генерал-губернатора возбужденная толпа издевалась над юнкерами, прибывшими сюда, чтобы выгнать из здания обосновавшийся там Реввоенсовет. Николай подошел поближе.
– А ну, братцы, – кричали возбужденные голоса, – кто там впереди, поднаприте на этих вояк.
– Чего захотел, у них винтовки.
– На фронте мы немца брали голыми руками.
– Если ты такой смелый, так иди вперед, люди, пропустите его.
– Да куда их бить, – вмешался женский голос, – они же еще дети, сами нас боятся.
И, действительно, оказавшиеся первый раз в такой ситуации, безусые юнкера с невинными детскими лицами смущенно переступали с ноги на ногу, вопросительно посматривая на своего командира, рослого, угрюмого капитана. Тот молча разглядывал возбужденную толпу, надеясь, что народ покричит и разойдется. Он еще помнил, как во время февральских событий, когда Николай II отрекся от престола, и власть перешла к Временному правительству, находясь в родном городе на излечении после контузии, он вместе с такой же ликующей толпой шел по Тверской и, испытывая необыкновенный душевный подъем, восторженно кричал: «Да здравствует революция! Да здравствует свобода!» – до того всем надоел прогнивший царский режим со своей коррупцией, взяточничеством, шпиономанией и распутинщиной.
Все ждали решительных перемен, успехов на фронте, но вместо них началась непонятная смута. Теперь эти же люди призывали к новому перевороту, и их агрессивный настрой и революционные требования ему не нравились. Еще минута, и они без всякой жалости растерзают его самого и этих необстрелянных мальчишек.
Негромко, но твердо он скомандовал:
– Р-ру-ж-жья на изго-т-овку, приготов-сь. На вас, орлы, смотрит генерал Скобелев и вся Россия…
Голос командира и обращение к герою 1812 года, застывшего позади толпы на вздыбленном коне с поднятой вверх шашкой, подняли боевой дух юнцов.
– П-л-и!
Взведенные затворы дружно щелкнули, грозное эхо – тра-та-та – пронеслось по всей Тверской. Толпа отпрянула назад и снова придвинулась к дворцу, теперь уже злая и решительная. Несколько человек стали отнимать у юнкеров винтовки. Кто-то запустил камнем в капитана. Тот выхватил из кобуры свой маузер и разрядил в первые ряды всю обойму. Люди бросились врассыпную. Несколько мужчин и молодая женщина в терракотовом пальто, выделявшимся на грязном снегу, как кровавое пятно, остались лежать на тротуаре. Чугунный Скобелев молча взирал на это зрелище.
– Что вы стоите, олухи? Стреляйте, стреляйте, пли! – надрываясь, орал капитан.
Из окна второго этажа дома губернатора выглянул человек в круглых очках, и, перевесившись через подоконник, закричал офицеру срывающимся голосом:
– Немедленно прекратите. От имени Реввоенсовета запрещаю стрелять в безоружных людей.
– Вас самих надо немедленно расстрелять, – со злостью выдохнул офицер и, быстро перезарядив маузер, выстрелил в кричавшего: возможно, это был сам Григорий Александрович Усиевич. Окно с силой захлопнулось.
«Вот оно началось, – взволнованно думал Николай, отступая с толпой то вперед, то назад. – Теперь, кто кого одолеет».
Людской поток вынес его к Иверской часовне и Вознесенским воротам. Проход на Красную площадь перегораживали солдаты, отгоняя людей через проходные дворы к Никольской улице. Знающие люди объяснили, что только что на площади юнкера обстреляли отряд, пришедший из Замоскворечья на помощь красногвардейцам. Их командир убит. Юнкеров много. Они держат оборону Кремля; большевики не могут их оттуда выбить, хотя подогнали тяжелое орудие.
А там уже бой разгорелся не на шутку: гремели пушки, трещали пулеметы. Кто Кремль окончательно захватит, тот и станет победителем. Для Москвы он имел такое же значение, как Зимний для Петрограда. Там защитники дворца сдали его почти без боя, а здесь за русские святыни – Красную площадь и Кремль, где находились гробницы великих князей и русских царей, где проходило «священное коронование» на престол всероссийских императоров, безусые мальчишки дрались не на жизнь, а на смерть.
– Говорят, им дан приказ, если что: взорвать все храмы и колокольню Ивана Великого, – сказал какой-то благообразный старичок и смахнул с лица слезы.
– Как же это можно, колокольню Ивана Великого? – тут же возмутились голоса. – Бог их накажет.
– А им все равно.
– Не правда, юнкерам не все равно. Они за Бога и за царя. А вот большевики – безбожники, им ничего не стоит шарахнуть по колокольне или Чудову монастырю своей шестидюймовкой.
Неизвестно, чем бы кончился этот спор, в который начали втягиваться и другие люди, по-разному относящиеся к большевикам и Временному правительству, но тут подъехала конная милиция и стала всех разгонять, освобождая проход для новых красногвардейских отрядов. Знающий народ моментально доложил, что прибыла помощь из Марьино. Откуда им это было известно? Они же сообщили, что рабочие захватили (или захватывают по второму разу) телефонную станцию, Почтамт, Крымский мост, ожесточенный бой идет на Неглинке за Государственный банк (Московской конторы Государственного банка).
«Все, как в Екатеринославе в 905-м году, – радостно отмечал про себя Николай, – вокзал, почтамт, телефонная станция, электростанция, банки, мосты». И также с опозданием власти объявили в городе военное положение. Везде появились об этом объявления, ходил военный патруль: красногвардейцы и солдаты от Комитета общественной безопасности. Такой патруль его остановил, когда он хотел с Никольской улицы через Третьяковский проезд выйти к Неглинке и посмотреть, что там происходит около банка.
Изучив документы, солдаты приказали ему свернуть в переулок на Ильинку. Оттуда, следуя указаниям других патрулей, видимо, приезжих и не знавших Москвы, он все дальше и дальше удалялся от центра, пока не вышел к Солянке. Тут он вспомнил, что недалеко отсюда, в Старосадском переулке снимает комнату Петр Остапенко. Трудно, конечно, предположить, что Петр в такой день усидит дома, но можно рискнуть, зайти к нему. Николай был у него всего один раз, номер дома забыл, но помнил, что окна его комнаты выходили на лютеранский собор.
Поднимаясь вверх по крутому Большому Ивановскому переулку, он невольно замедлил шаг. На зимнем небе разгорался багровый закат, и на его фоне, на горе величественно застыли храм Святого князя Владимира и Ивановский монастырь. Старосадский переулок шел от них влево. Этот район вообще был замечателен своими культовыми сооружениями. В прошлый раз, разыскивая дом Петра, он наткнулся где-то по соседству с синагогой.
За угловым домом Николаю открылась довольно неприглядная картина: двое мужиков в кожаных фартуках, перепачканных кровью, снимали с грузовика обезглавленные трупы лошадей и отправляли их в подвал. Наверху находилась лавка с вывеской «Мясо, колбаса». Еще один мужик в таком же фартуке, стоя на лестнице, прибивал рядом с вывеской большую железную подкову с лошадиной мордой внутри, указывающую на то, что здесь продают конину и изделия из нее. Пока одни москвичи воевали, другие, пользуясь моментом, подбирали на улицах павших в бою или от голода животных, делая на этом коммерцию.
Петр оказался дома и очень обрадовался другу. Он тоже был на Тверской, стоял с толпой у Иверской часовни, и там ему пришла неожиданная мысль, касающаяся Николая.
– Ну, ну, интересно, – сказал Николай. Он замерз и, не снимая пальто, направился к самодельной печурке с трубой, в которой горел огонь. Рядом лежали старые журналы и мелкие щепки. Такие печурки-времянки сейчас можно было встретить во многих московских домах. В городе не было дров, их топили, чем придется, в основном книгами и старой мебелью.
Петр взял со стола книгу.
– Узнаешь, твой роман «Цена измены». Когда я стоял в толпе людей и видел их сумасшедшие глаза, да, да, не возражай, они всегда у них такие, когда, подогревая друг друга выкриками, готовы совершить любое действие: убийство или погром, мне пришла мысль написать сценарий по твоей книге и поставить его в своем театре. Теперь уже не до водевилей и опереток. Во французской революции все соответствует нынешним событиям: энтузиазм людей, уличные бои, рабочие отряды и национальная гвардия…
Был еще такой левый журналист Жан-Батист Мильер, который не состоял в Коммуне, но писал разоблачительные статьи, обвиняя современное общество в жестокости и бесчеловечности. Он тоже попал к версальцам. Перед казнью в Пантеоне его заставляли встать на колени и извиниться перед толпой за статьи. Жан-Батист сопротивлялся, пока солдаты не применили силу. Умирая, он успел выкрикнуть: «Да здравствует человечество!» У тебя в книге этого эпизода нет, но я обязательно вставлю его. Перед смертью Мильер произнесет монолог, небольшой, но весомый – о свободе и насилии власти. И будет много музыки. Ах, как ты мне чудесно рассказывал про шарманщика с обезьянкой на улицах Парижа и пианиста, игравшего в каком-то магазине во время бомбежки. Мне нравится образ скрипача. Этого человека я помещу в тюрьму.
– Со скрипкой?
– Да. Когда кого-то из коммунаров уводят на расстрел, он берет в руки скрипку и играет Реквием Моцарта. И такая же музыка тихо звучит в конце, когда брат-предатель умирает на темных улицах Парижа.
– Весьма оригинально.
Николай с восхищением смотрел на друга. Тот на ходу менял его сюжет, но, наверное, это было важно для пьесы и театра. А Петр увлеченно продолжал.
– Зная, что их дело рано или поздно восторжествует, бойцы смело вступают в сражение с версальцами… и гибнут. Тут снова вступает скрипка. Ее тихие рыдающие звуки постепенно переходят в мощную мелодию, в которой сочетаются страдания людей и радость победы.
– Это будет очень своевременная пьеса. Прошлое о настоящем. Как хорошо, что ты тогда прислал мне эту книгу из Женевы.
– Я давно забыл про нее. Но ты так хорошо все представил, что мне самому показалось это интересно.
– Поможешь написать сценарий?
– Не могу, в субботу хочу уехать в Ромны, приеду сюда через месяц на съезд, но мне будет некогда.
– Как хочешь, только потом не ропщи, если что-то будет не так.
– Я полностью тебе доверяю. Прости, но и в воскресенье не смогу прийти на встречу с интересными людьми…
– Наверное, с этими событиями и так все будет отменено.
– Что за творческие люди?
– Скажу тебе по секрету, они имеют отношение к тайной ложе тамплиеров.
– Можешь не продолжать. Это – Карелин.
– А ты откуда знаешь?
– Имел удовольствие познакомиться с его деятельностью в Париже и увидеть одну из его масонских пьес. Меня лично не интересует ни сам Карелин, ни его окружение.
– Там есть режиссеры, артисты, ученые, много профессоров из вузов. Меня привлекают их взгляды на саморазвитие личности.
– Ты хочешь, чтобы твои герои: большевики и красногвардейцы, ходили по миру и искали Атлантиду и чашу Грааля? Или забивать головы зрителей философией о светлом рыцарстве и их орденских делах?
Николай встал и, подражая голосу Никиты Виданова, поэта из эмигрантской библиотеки на авеню де Гобелен в Париже, ходившего слушать лекции таких же «интересных» людей из карелинского «Братства», с пафосом произнес:
– Какая главная цель в жизни каждого человека? Собственное исправление и очищение. Мы должны к ним стремиться независимо от всех обстоятельств.
– Зря, Коля, смеешься. Общество не сможет развиваться, если искусство будет топтаться на месте. Зритель теперь другой, ему надо показать, что жизнь даётся людям не для потребления, а для созидания, в первую очередь, созидания самого себя.
– Ты мне уже как-то говорил о новом искусстве. Для простого человека все это мудрено и не имеет ничего общего с тем, что происходит сейчас в России. Как бы со своей чашей Грааля вы не забрели в другую степь. Впрочем, поступай, как знаешь. Сейчас хорошо бы попить горячего чайку, я никак не согреюсь.
– Извини, сейчас поставлю чайник. Когда я чем-то увлекаюсь, могу говорить об этом бесконечно. У меня заварка из сухой моркови, зато есть хлеб и конская колбаса.
В голове Николая тут же всплыли фургон и трупы лошадей, но возникшее, было, отвращение к колбасе из такого мяса, быстро прошло, так как он последние дни толком ничего не ел. Как говорится, не до жиру, быть бы живу.
– Я все с удовольствием съем, только давай быстрей, а то с комендантским часом как раз угодишь в участок.
– Оставайся ночевать.
– Не могу, надо до отъезда решить много дел.
В субботу Николай тоже не уехал, не уехал и в последующие дни. В городе начиналось самое интересное, и ему хотелось увидеть все собственными глазами. Теперь Москва напоминала военный лагерь: мчались куда-то самокатчики, ехали грузовики с солдатами и красногвардейцами, ревели броневики. Однако народ, напуганный артиллерийской канонадой и пулеметной стрельбой, сидел по домам; лавки и магазины не работали. Многие хозяева предусмотрительно забили окна и витрины досками и железными щитами – от взрывов и погромщиков.
В центре бои шли повсюду: у Никитских ворот, во всех соседних переулках, на Тверском бульваре, Страстной площади, Остоженке, Пречистенке. Кремль и собор Василия Блаженного обстреливали из тяжелых орудий, не думая о сохранении их исторической архитектуры.
Переходя с улицы на улицу и рискуя угодить под пули или быть арестованным военным патрулем, Николай натыкался то на баррикады, то на окопы, то на минометные батареи. Стреляли из окон, с крыш, из арок, подъездов. Чтобы не пропускать юнкеров с Арбата, где находилось Александровское военное училище, большевики втащили пулемет на колокольню Англиканской церкви – недалеко от его дома в Большом Чернышевском переулке.
В свою очередь юнкера и офицеры заняли на углу Большой Никитской кинотеатр «Унион» и устроили на его крыше пулеметные позиции. Пули беспрерывно барабанили по стенам соседних домов, отбивая штукатурку и влетая в окна квартир. Вероятно, там пострадало немало людей.
После многочисленных атак красные отогнали юнкеров от Дома губернатора, и установили там несколько пушек, чтобы обстреливать Кремль и гостиницу «Метрополь», занятую противником. Пулеметы стояли на самой гостинице «Метрополь» и Большом театре. И та, и другая стороны занимали здания, имеющие стратегическое значение, рыли вокруг них окопы, подвозили свежие силы и орудие. Все улицы вокруг Тверской улицы были завалены баррикадами.
Несколько раз Николай пытался пройти к Дому анархии на Малой Дмитровке, но на Страстной площади и всех прилегающих к ней улицах шли ожесточенные бои. Через них пытались прорваться антибольшевистские силы из других районов города.
Точное положение дел никто не знал. Одни говорили, что Руднев и Рябцев предложили восставшим сдаться, другие, наоборот, утверждали, что это красные, получив подкрепление из Подмосковья, поставили перед Комитетом безопасности вопрос о сдаче, обещав в случае отказа устроить массированный артобстрел Городской думы. Противная сторона обвиняла в нерешительности и нерасторопности полковника Рябцева. Ходили также слухи, что Ревком и Комитет безопасности, чтобы выиграть время и дождаться подкрепления (каждый со своей стороны), ведут переговоры о перемирии и образовании «однородного социалистического правительства», и это перемирие вроде установилось, но было нарушено красными, выпустившими несколько снарядов по «Метрополю». Вскоре обеим сторонам стала прибывать помощь из других городов, и бои разгорелись с новой силой.
Однако большевики уверенно брали вверх. Со Страстной площади они перешли на Тверскую улицу и продвигались к Красной площади. Не имея больше сил сопротивляться, защитники Кремля – юнкера, сдались и с поднятыми руками выходили через Спасские ворота. Их сажали в грузовики и увозили в Бутырскую тюрьму. Над Кремлевским дворцом взвился красный флаг.
Николой попытался пройти на Красную площадь, чтобы посмотреть, как она выглядит после боев, но все проходы туда перекрывали цепочки красногвардейцев. С Тверской хорошо были видны сильные разрушения на кремлевских башнях, на Метрополе, Большом театре, Городской Думе и Историческом музее. Весь центр Москвы, особенно в районе Тверского бульвара и Страстной площади, выглядел, как после бомбежки. От некоторых домов остались только обгоревшие стены..
В пятницу 3-го ноября Военно-революционный комитет издал «Манифест», в котором торжественно объявил, что «после пятидневного кровавого боя враги народа, поднявшие вооруженную руку против революции, разбиты наголову. Они сдались и обезоружены. Ценою крови мужественных борцов — солдат и рабочих — была достигнута победа. В Москве отныне утверждается народная власть — власть Советов р. и с. д.». Манифест кончался патетическими словами: «Слава павшим в великой борьбе! Да будет их дело делом живущих!»
Начались массовые похороны жертв с той и другой стороны. Защитников Временного правительства отпевали в храмах, главным образом Большого Вознесения у Никитских ворот, затем их отвозили на городские кладбища.
Самая большая похоронная процессия пешком направилась по Петроградскому шоссе на Братское кладбище, ставшее во время войны с германцами местом погребения сотни воинов, скончавшихся в московских госпиталях. По пути её следования во всех церквях проходили панихиды, стоявшие на тротуарах люди – последний оплот самодержавия – долго и истово крестились.
Большевики своих героев хоронили на Красной площади. Накануне ночью у Кремлевской стены (от Никольских ворот до Сенатской башни и дальше, с небольшим промежутком, до Спасской башни) вырыли две братские могилы. Длинный поезд из 238 гробов сопровождало несколько тысяч человек. Высоко над головами плыли красные знамена с золотыми и серебряными надписями и черным крепом на верхушках древков. Тихо звучала песня: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Под ногами скрипел снег, тревожно ржали лошади милиционеров, следивших за порядком.
Николай шел в этой толпе и думал: «Все это было, было, было! Но теперь всему конец: социалистическая революция победила, это будут последние жертвы».
Гробы опустили вниз, закидали землей. Духовой оркестр из военных музыкантов в серых шинелях с красными воротниками исполнил «Интернационал».
Затем начался митинг. Выступало много людей: члены московского Реввоенсовета, председатель Совета депутатов Каменев, рабочие, солдаты. Из анархистов Николай никого не видел. Сколько времени это длилось неизвестно, так как часы на Спасской башне были повреждены и перестали не только исполнять царский гимн, но и отбивать время.
Не дослушав до конца очередного оратора, Николай выбрался на Тверскую, до сих пор заваленную баррикадами и изрытую окопами. В квартире никого не было. В эти дни, уходя рано утром, чуть свет, и приходя поздно вечером, он не видел своих соседей Павлова и Брянцева, с которыми за неимением времени вообще мало общался. Чей-то незнакомый тощий кот сидел на табурете, жалобно мяукая и заглядывая ему в глаза.
Николай нашел на соседнем столе кастрюлю с холодной картошкой, съел сам три штуки и положил две коту. Тот съел и снова замяукал. Отдав ему все остатки, он написал соседям записку, что срочно уезжает домой и в следующий свой приезд вернет долг за себя и кота. Вода в кране еле капала. Кое-как умывшись, он попробовал телефон, молчавший все эти дни. На его счастье телефонная станция заработала. Не сразу, а минут через 15 его соединили с больницей. Володя на него накричал, что он пропал из виду, когда такое творится в городе. К ним с утра до ночи привозили раненых.
– Я сегодня уезжаю домой, по дороге мне надо повидать товарищей в Харькове, – сказал Николай.
– А подарки и велосипед?
– В следующий раз.
– Я пришлю на вокзал машину с водителем, он все привезет.
– Не надо. Я не знаю, как вообще уеду. Может быть, поезда не ходят.
– Найдешь моего водителя Максима около кассы, – настойчиво повторил Володя. – Он тебе поможет. Когда ты там будешь?
– По расписанию поезд отходит в десять с четвертью, но видишь, какая сейчас ситуация…
– А-а, так ты едешь поздно вечером, тогда приезжай к нам, еще много времени.
– Не могу. У меня есть дела.
– Раз так, я сам приеду на вокзал. Встретимся у касс. Если приеду раньше, куплю тебе билет с пересадкой в Харькове.
Николай с теплотой подумал о брате, который заботился обо всех них, как родной отец. Высокое положение его ничуть не меняло.
В оставшееся время надо было забежать в Дом анархии, попрощаться с друзьями и получить от Гордеева обещанные материалы к съезду. Охранник при входе сказал, что Марк тяжело ранен, лежит в больнице, а Туркин с утра ушел на Красную площадь.
Тут появился Лёня и набросился на него.
– Живой!? Я к тебе вчера два раза заходил домой. Трудно было дать о себе знать?
– Как? Тут все было перекрыто, телефон не работал. Мне сказали, что Марк ранен.
– Да. Мы вели бой около монастыря. По всей Москве наших много погибло и ранено. Хочешь Марка навестить: он лежит тут рядом, в Ново-Екатерининской больнице?
– Идем, только ненадолго, вечером я уезжаю в Ромны.
Марк был ранен в живот и спину, ему предстояло несколько операций. Одну уже сделали. Он себя плохо чувствовал, но, увидев друзей, оживился и приподнял голову.
– Как вам это нравится: большевики создали Совет народных комиссаров. Это им не пройдет, – возмущенно закричал он на всю палату. – Там, где начинается организация власти, кончается организация революции! Будет еще один бой между этими лживыми социал-демократами и творческим духом масс, между насилием и свободой.
– Не принимай все так близко к сердцу, тебе нельзя волноваться, – успокаивали его друзья.
Вбежала сестра и приказала им уйти.
– Как же теперь наш съезд? – спросил в дверях Николай.
– Не знаю. Врачи говорят, что я проваляюсь здесь до весны, и в группах сильные потери. Так что связывайтесь с Петроградом.
– Ты сам ничего не написал, как я тебя просил?
– Написал. Возьмешь в верхнем ящике стола: там, кроме моего материала, несколько докладов с заводов, есть интересные предложения.
– Давай, Лёня, здесь попрощаемся, – сказал Николай, когда они вышли из подъезда красивого здания с колоннами, когда-то принадлежавшего князьям Гагариным. – Зайду в редакцию, оттуда домой и на вокзал. Лиза и мама уже, наверное, сходят с ума. Как выяснится насчет съезда, сразу напишу тебе. А то сам приезжай в Харьков, тебе все будут рады.
– Вряд ли получится. Сам видишь, что тут у нас произошло. Придется все налаживать заново.
– Как еще все это примут на Украине? Там всему голова Центральная Рада.
Николай чуть не опоздал на поезд: до вокзала пришлось идти пешком, трамваи где-то застряли, извозчики и таксомоторы были нарасхват. Несмотря на тревожные события в стране, поезда ходили, и что удивительно, – строго по расписанию. Володя был уже на месте. Рядом с ним стоял водитель Максим, зорко охраняя три ящика и детский велосипед.
– Володя, – растерялся Николай, увидев этот груз, – ну, как я все довезу. У меня растащат по дороге.
– На них наклейки Красного Креста. Если что, говори, что это правительственный груз на фронт и грабить его – подсудное дело, военный трибунал. В Ромнах Дорошенко поможет, я дам ему телеграмму. В Харькове тебя смогут встретить и перенести вещи в другой поезд?
– Там, наверное, тоже идут военные действия. На всякий случай пошли телеграмму на адрес Федерации: Садово-Куликовская, 25, Гаранькину. Пусть подойдут к поезду, мне им нужно передать материалы.
– Как приедешь домой, сразу отбей телеграмму, – приказал Володя, крепко обнимая его на прощание.
Снова Николай ехал в переполненном вагоне. Ящики с яркой наклейкой Красного Креста стояли на верхней полке, привлекая к себе двойное внимание. Особо любопытным Николай разъяснял, что везет ответственный груз для фронта. За ящиками лежал разобранный велосипед. О нем Николай беспокоился большего всего, и всю ночь не смыкал глаз, читая про себя стихи.
В Харькове на вокзал пришли Гаранькин и Барон, помогли перенести вещи в поезд, отправлявшийся вскоре в сторону Ромен. На ходу обменялись новостями о революционных событиях. В Харькове прошло все более-менее спокойно. Большевики взяли власть в свои руки, но Центральная Рада не собирается с этим мириться. Все ждут, что будет дальше.
– Москвичи отказались помогать со съездом, – сказал Николай, – там во время боев погибло много народу. Гордеев серьезно ранен, предложил обратиться в Питер.
– Это долгая история, – сказал Гаранькин, – проведем у себя сами где-нибудь в конце декабря. Теперь в связи с последними событиями нам придется о многом поразмыслить.
Ударил третий раз колокол. По перрону торопливо пробежал кондуктор, предупреждая публику об отправке поезда.
– Желаем вам с Лизой удачи, – сказал Барон, одной рукой пожимая ему локоть, другой – засовывая в карман конверт.
– Что это?
– Немного денег. Товарищи собрали.
– Это лишнее, – Николай хотел вернуть конверт, но Барон остановил его.
– Не надо, Коля, обижать людей. Мы же от души.
– Спасибо! Приеду, за мной жареный картофель и магарыч.
ГЛАВА 2
Даниленко жили на своей улице около тридцати лет, пользуясь среди соседей большим уважением. Илья Кузьмич помогал многим ставить заборы, стелить полы, чинить крыши, белить хаты, класть печки: он был мастер на все руки. К Елене Ивановне бегали по хозяйству: за солью, мукой, сахаром, а то и за советом: что делать с запившим мужем или отбившимся от рук сыном. Несмотря на свою занятость большой семьей и хозяйством, она всех выслушивала, поила чаем и обязательно давала с собой сладости и пироги, такой у нее был издавна заведен порядок. Она знала, кто, чем живет, у кого какие радости и беды.
И об их семье все знали, от соседей ничего не скроешь. Все жалели Елену Ивановну, когда Илья Кузьмич надолго уезжал за большими заработками в другие города, и ей одной приходилось возиться с детьми и хозяйством. Марфа появилась у них, когда родился пятый сын Гриша. Когда же во время войны на нее навалилась череда несчастий с сыновьями и к довершению всего болезнь и смерть Ильи Кузьмича, все искренне ей сочувствовали, стараясь проявить, кто как мог, внимание и заботу.
Вот и сейчас Аникий Дмитриевич Дорошенко, зная, что Николай должен приехать из Харькова и почему-то сильно задерживается, скрывал от его родных газеты с новостями о перевороте в Петрограде. Отсутствие Николая он связывал с этими событиями, и, желая сделать как лучше, сочинил от его имени телеграмму и принес ее домой Даниленко.
– Телеграмма из Харькова, – сказал он Елене Ивановне, вышедшей на стук в ворота. Та поспешно вскрыла ее, не обратив внимания на размазанные штемпели.
– Коля пишет, что еще задержится на неделю. Лизонька теперь успокоится. А газеты?
– Опять не привезли.
– Странно, – Елена Ивановна подозрительно посмотрела на соседа. – Аникий Дмитриевич, скажите правду: что-то случилось в России?
– Ничего не случилось. Вечно, вы, Елена Ивановна, что-то подозреваете.
Долго оставаться в неведении было невозможно. Их соседка Агриппина, теща Степана Костюка, найдя на столе свежие киевские газеты, обрадовалась им и, дождавшись, когда Степан уйдет на службу, побежала с ними к Даниленко, решив, что Елене Ивановне и Лизе интересно будет узнать последние новости из России.
– Новая революция, – ахнула Лиза. – Временное правительство арестовано, большевики установили власть Советов. Про Харьков ничего не вижу. А вдруг там тоже были бои и Колю убили? – вырвалось у нее непроизвольно, и она грузно опустилась на стул.
– Что ты, Лизонька, – разволновалась Елена Ивановна. – Он же прислал телеграмму, что скоро приедет. Недолго осталось.
Однако в душу ее закрались сомнения. Отправившись на почту, она заставила Митрича во всем признаться, и, пристыдив старика за обман, пусть и во имя их блага, велела отправить срочные телеграммы в Харьков, Екатеринослав, Москву, Киев и Барнаул (Грише), чтобы все дети прислали ответные телеграммы и успокоили ее материнское сердце.
На обратном пути ей попалось объявление на доме: «II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял Декрет о мире. Новая власть отказалась от тайной дипломатии и провозгласила немедленное заключение «всеми воюющими народами и их правительствами… справедливого, демократического мира…без аннексий и контрибуций». «Ну, наконец-то, народ вздохнет», – обрадовалась Елена Ивановна и заспешила домой сообщить такую долгожданную новость родным.
На следующий день пришел довольный Митрич с двумя телеграммами из Москвы от Володи. Одна была ему самому, где он просил помочь Николаю выгрузить из поезда тяжелые вещи, вторая – Лизе, с точным числом, 13 ноября, когда он приедет в Ромны.
Женщины долго гадали, какое отношение имеют телеграммы Володи к приезду Николая. Так ничего и не придумав, стали с нетерпением ждать, когда он сам появится и все объяснит. Оставалось не так уж долго – два дня. И Елена Ивановна стала советоваться с Марфой, какую из оставшихся кур «отправить» к приезду сына в борщ.
В доме все резко кончалось, даже дрова. Как назло в эти дни выпало много снегу, стоял небольшой мороз. Пришлось выгрести из сарая старый кизяк, лежавший там лет десять, затем разобрать на дрова и сам сарай, перетащив оттуда весь инвентарь в летнюю кухню. Там же еще с лета находились и вся их немногочисленная живность: одна коза, куры и два кролика, оставленных Верочке для забавы.
… После завтрака холодный неуютный день собрал всех в столовой-гостиной. Лиза вязала из козьего пуха кофту для Веры и рассказывала Елене Ивановне и Марфе, как в Европе и Америке празднуют Рождество, которое в России, было не за горами. Елена Ивановна готовила в печке (в чугунках) ставший «традиционным» обед: постные щи и картошку.
Вера сидела на подоконнике, рисуя на запотевшем стекле человечков с надувными шарами. Ей было скучно. Хотелось во двор поиграть с Пушком, который тихо сидел в будке и тоже скучал в одиночестве. Вдруг он выскочил из будки, залаял и заметался.
– Ишь, как заливается, видать, кто-то незнакомый, – сказала Марфа, – пойду, посмотрю.
Вера прильнула носом к стеклу и, когда Марфа открыла ворота, радостно закричала:
– Это папа, папочка приехал!
Лиза с трудом поднялась с кресла и подошла к окну, радуясь, что Николай приехал раньше времени. Но это был не Николай. Рядом с Марфой по дорожке к дому шел Дмитрий Ружинский. Верочка узнала его и, когда он вошел в дом, бросилась к нему, совсем забыв, что у нее теперь другой отец.
Накинув теплый платок, Лиза вышла в коридор встречать гостя.
Дмитрий держал дочку на руках; та радостно обнимала и целовала его, повторяя, как попугай: «Папа, папа, приехал». Елена Ивановна и Марфа, сообразив, в чем дело, вежливо ушли в столовую.
Дмитрий радостно улыбался, однако, увидев, что Лиза беременна и уже на большом сроке, нахмурился.
– Вот, – сказал он, обнимая и целуя ее в обе щеки, – еду по делам в Киев, решил заглянуть к вам. Очень соскучился.
– Ты вовремя приехал. Сейчас будем обедать.
– Давайте лучше погуляем по городу.
– Я далеко не хожу. Верочка тоже сидит дома, на улице холодно.
– Совсем не холодно, – возразила девочка. – Я хочу погулять с папой. Он меня покатает на санках.
«Маленькая предательница, – с обидой подумала Лиза, – как будто никто ее не катает».
– Недалеко от вокзала я видел фотоателье, – сказал Дмитрий, – давайте съездим туда, сфотографируемся.
– Мамочка, ну, пожалуйста, поедем, – захныкала Вера.
– Хорошо. Поедемте, – покорно согласилась Лиза, лишь бы что-то делать.
Дмитрий взял ее под руку, и они медленно пошли к воротам.
Местного фотографа, Юрия Тарасовича Кожуха, в городе с уважением называли мастером за то, что он очень хорошо делал цветные художественные портреты размером 35 на 50 см. В доме каждого уважающего себя роменчанина непременно висел в дорогой раме или багете такой портрет, стоивший далеко недешево. Сейчас в ателье редко кто заглядывал, и Юрий Тарасович с объятиями встретил неожиданных посетителей. Если бы не Лизино положение, он бы долго пересаживал их с места на место, подставляя то стулья, то кресло и стул, то танкетку, чтобы найти, как он говорил, нужный ракурс и освещение. Улыбаясь и деловито расспрашивая, каких размеров нужна им фотография, он посадил Дмитрия и Лизу рядом на стулья. Верочку поставил ближе к матери, чтобы скрыть ее живот.
– Обнимитесь и склоните друг к другу головы, – приказал Кожух. Дмитрий послушно наклонился к Лизе и обнял ее за плечи.
На обратном пути он ни с того ни с сего затеял разговор о том, что, раз она ждет второго ребенка, пусть отдаст ему Верочку.
– Ты так говоришь, как будто это – игрушка, – возмутилась Лиза. – Она привыкла к Коле и его родным. Ее все любят.
– В Умани ей тоже будет хорошо. У меня квартира из двух комнат. Я – председатель комитета нашей партии и член Совета депутатов.
– С кем же ты там живешь?
– Один, но найму няню. Я ее люблю и… тебя. Мне без вас плохо.
– Мы с тобой все решили в Нью-Йорке. Зачем возвращаться к прошлому?
– Я ничего не решал, ты меня поставила перед фактом. Это не только твой ребенок, но и мой. Я тоже имею на него право.
– Ты за этим сюда приехал?
– Нет, но я не знал, что ты беременна. Ты же видишь: Вера меня не забыла и любит.
– Она ребенок, ничего не понимает.
– Пусть она сама решит, с кем ей жить. Верочка, ты хочешь со мной поехать в Умань?
– Хочу, – не задумываясь, ответила та, но увидев огорченное лицо матери, добавила, – только с папой и мамой.
– Заметь, – не сдержала улыбки Лиза, – слово «папа» она поставила на первое место. Она сама так называет Колю, мы ее не принуждали. Приезжай сюда сам и общайся с дочерью сколько угодно, но больше не поднимай этого вопроса.
– Ты помнишь наш уговор насчет фамилии и отчества Верочки?
– Помню.
– Хочу быть Даниленко, – совсем некстати заявила Верочка, уже не раз спрашивая взрослых, почему у них с мамой другие фамилии.
– Ребенок сам не мог до этого додуматься, – снова завелся Дмитрий. – Вы ее настраиваете против меня.
– Не говори глупости. Она – умная и сообразительная девочка.
– Я хочу поговорить с Николаем, дай мне его адрес в Харькове.
– Оставь его в покое, у него и так много забот.
– Лиза! Вернитесь ко мне. Я приму и твоего второго ребенка.
– Ты сам не понимаешь, что говоришь, – Лиза взяла Веру за руку и, насколько позволяли силы, быстро пошла вперед. С унылым видом он последовал за ними, чтобы забрать свой чемодан.
– Дмитрий уезжает, – сказала Лиза Елене Ивановне, собиравшейся пригласить всех на обед, и ушла с дочкой в свою комнату. Та плакала и просилась к отцу. Позже Лиза жалела о своем поступке, но в тот момент ей показалось, что он способен силой отнять девочку и увезти с собой.
Елена Ивановна поняла, что между Лизой и отцом Верочки произошел неприятный разговор, но не стала расспрашивать, захочет, сама расскажет.
Все теперь старались ее не волновать, так как сроки родов приближались. Учитывая ее чрезмерную полноту, женский доктор Плетнев из городской больницы, наблюдавший ее с самого приезда в Ромны, заявил, что при родах могут быть осложнения. Нужно лечь в больницу, чтобы она была на виду у медперсонала, при необходимости вызвать искусственные роды.
Елена Ивановна ее успокаивала, говоря, что у нее тоже бывали тяжелые роды, врачи любят перестраховываться. Сама она всегда рожала дома в присутствии мужа и старой земской акушерки Марии Косач, давно ушедшей на тот свет.
Ждали Николая. Он расстроился таким положением дел, но привык слушать Володю, а тот ему внушил в Москве, что надо полностью довериться Плетневу и выполнять все его советы. Разговоры о больнице и тревога за Лизу отвлекли внимание родных от ящиков и велосипеда. Все решили, что это – посылки из Москвы, которые Володя специально приурочил к приезду Николая из Харькова.
Лизу отвезли в больницу, положили в палату, где находились еще десять женщин. Родным разрешали их посещать в любое время. Николай целый день проводил с женой, успокаивая ее, что все будет хорошо. Его самого поражало, что живот ее увеличивается, а ребенок сидит на месте. Плетнев постоянно прослушивал плод и говорил, что все идет нормально: сердце малыша бьется, он ведет себя активно, как и полагается вести себя в этом сроке в утробе матери.
ГЛАВА 3
У православных начался Рождественский пост, совпадавший с большим церковным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Накануне этого дня вечером мама и Марфа долго молились, готовясь на следующее утро пойти на службу. Марфа вскоре легла, а Елена Ивановна все продолжала молиться. Николай в соседней комнате слышал, как она шепотом произносила имена Лизы, Верочки, братьев, своих невесток Даши, Лены, всех внуков и внучек и снова Лизы и Верочки. Эти молитвы и разговор с Богом о родных людях укрепляли ее дух, сломленный после смерти мужа. Незаметно под этот шепот он уснул.
Разбудил его лай Пушка. В коридоре стояли Марфа и Елена Ивановна. Олеся в одной рубашке спускалась по лестнице из своей комнаты с расширенными от ужаса глазами.
– А вдруг это погромщики? – испуганно воскликнула Елена Ивановна. – Коленька, возьми икону.
– Я им покажу погром, – буркнула Марфа, которая ничего на свете не боялась, схватила кочергу и пошла к воротам вместе с Николаем, спустив по дороге с цепи Пушка.
Услышав шум, с той стороны закричал женский голос:
– Николай Ильич, это – нянечка из больницы.
– Что случилось? Моя жена… – перепугался Николай, впуская женщину во двор и придерживая за ошейник отчаянно лаявшего Пушка.
– С вашей женой все в порядке. Она родила дочку. Больницу захватили гайдамаки. Всех больных повыгоняли. Беременных оставили до утра. Вот я и бегаю по домам, родных предупреждаю, чтобы их забрали.
– Спасибо вам. Сейчас мы за ней приедем. Может быть, пройдете в дом, выпьете чаю?
– Нет. Мне надо еще в три места сбегать, – заторопилась женщина и скрылась в темноте.
– Мама, – крикнул Николай, – вы слышали, Лиза дочку родила. Соберите пока для них вещи, а я пойду к деду Афанасию за лошадью. Да магарыч Плетневу не забудьте.
– Ах, Лизонька, вот молодец, – не могла удержаться от радости Марфа, – родила в такой большой праздник. Я с тобой тоже поеду.
Дед Афанасий – еще один их сосед, белый, как лунь, полу-глухой и такой древний, что с трудом передвигал ноги. Лошадь была не его, а племянника Данилы, приехавшего из села подрабатывать извозом.
Николай без труда открыл защелку в калитке покосившегося забора. Все окна в доме были наглухо закрыты ставнями. Николай долго стучал в них и дергал дверь. Наконец в дверях показалась белая голова Афанасия.
– Данило, ты что ль?
– Это я, дедушка, ваш сосед Николай.
– Носит по ночам нечистая. Подожди, лампу засвечу.
В доме были одни старики: Афанасий и его такая же глухая и слепая жена Полина. Племянник уехал на праздники домой, в село. Николай объяснил деду, зачем ему нужна лошадь и положил в его сухую, жилистую руку две бумажки.
– Смотри, Миколка, – говорил старик, вытирая рушником слезившиеся глаза, – лошадь отымут, Данило снесет мне голову, да и помрем тут все с голоду.
– Тогда мы вас, дедушка, с бабой Полей возьмем к себе на постой.
– Все шутишь, пострел. А деньги возьми обратно, не обижай старика.
– Нет, ты меня не обижай, дед, приедет племянник, выпьете с ним за мою доченьку.
Выведя из сарая лошадь, Николай дрожащими от волнения руками запряг ее в сани и, открыв ворота, выехал на улицу. Марфа ждала его на углу. Сани легко заскользили по укатанной дороге. Что-то твердое уперлось ему в бок из тюка с одеждой, провел рукой – ствол ружья.
– Марфа, ты, что мне подсунула под бок?
– Ружье.
– Откуда оно у тебя?
– Так, на всякий случай.
– И много их в доме, этих ружей?
– Хватит, чтобы бандитов отогнать. Еще при Илье Кузьмиче завели, когда грабители повадились в сад лазить.
– Ну, конспираторы. А от меня, почему скрывали?
– Забыли, пришел черед и вспомнили.
– Стрелять-то хоть умеешь?
– Тут и уметь-то нечего, – прихвастнула Марфа, не только никогда не стрелявшая, но, как человек глубоко религиозный, считавшая это большим грехом. Но недаром говорят: у страха глаза велики. Почуяв опасность в словах прибежавшей из больницы женщины, она достала из сундука ружье и сунула его в тюк с одеждой: авось пригодится.
Больница находилась от них через несколько кварталов. Не так далеко, но отощавшая лошадь плелась еле-еле. Фонари нигде не горели. Дома казались нежилыми, вымершими, даже собаки не лаяли. Редко, где сквозь узкие щели в ставнях пробивался свет от керосиновых ламп. Но и в этой темноте они замечали тут и там группы вооруженных людей. Два раза их остановили. Это были гайдамаки. Николай боялся, что они станут обыскивать сани и найдут ружье.
Марфа велела ему молчать, сама на смешанном русско-украинском языке объясняла, что они срочно едут в больницу за родившимся ребенком и, показывая на лошадь, весело приговаривала: «Та нехай она здохне, и я разом с нею, якщо брешу». Лошадь оставалась на месте, и, так как веселая жинка с неразговорчивым возницей не внушали особого подозрения, их отпускали восвояси.
На крыльце больницы толпилось человек десять бандитов.
– Смотри-ка, – воскликнула Марфа, – сколько их сюда понаехало! Дармоеды. Опять базар не будет работать (во время наезда отрядов и даже задолго до этого – откуда только крестьяне все узнавали, базар пустел).
Оставив Марфу в санях и захватив тюк с одеждой, Николай направился к крыльцу.
– Ты куда? – зло спросил один, преграждая ему дорогу ружьем.
– Жена здесь лежит. Недавно родила. Приехал забрать.
– Красная карточка есть (после III универсала «щiрые украинцы» получили красные карточки – удостоверения личности, что они являются гражданами УНР).
– Нет. Говорю же: приехал жену с ребенком забрать.
– А в руках что?
– Одежда для них.
– Как фамилия?
– Даниленко, – сказал Николай, понимая, что Лизина фамилия может вызвать ненужную реакцию.
– Кто тебя знает, что ты за птица, – сказал охранник, внимательно осматривая его с ног до головы, и приказал товарищу. – Иди, проверь, есть наверху такая баба.
Через десять минут вышла санитарка из родильного отделения и подтвердила, что у этого человека жена находится в палате с новорожденным ребенком. Николая пропустили.
В вестибюле и коридорах тоже полно было этих вояк, они громко разговаривали и гоготали.
– Весь спирт выпили, – шепотом поведала санитарка. – Пьяные со вчерашнего вечера.
– Откуда их принесло?
– Где-то вели бой, привезли много раненых.
Лиза была в палате одна. Сидела на кровати с перепуганным лицом, прижимая к груди ребенка. Увидев Николая, радостно вскочила.
– Коля, ну, наконец-то, одежду привез?
– Все привез. Одевайся, а я на доченьку посмотрю.
Взяв малышку, он осторожно прикоснулся губами к ее щечке. Девочка спала. У нее было сморщенное лицо, крохотный, курносый носик и длинные, черные ресницы, загнутые кверху.
– Коля, ты рад, что дочка? – спросила Лиза, заворачивая девочку в теплое одеяло. – Давай назовем ее Олей.
– Отличное имя, – сказал Николай, который от нахлынувшего счастья, что все волнения остались позади, был согласен, на что угодно. – А где Плетнев? Хотел ему преподнести в подарок магарыч.
– Оперирует раненых петлюровцев.
– Он же женский врач?
– А им все равно, лишь бы был в белом халате. Больных разогнали. Плетнев еле уговорил оставить беременных женщин до утра. Наглые такие, уселись в палате, разглядывают нас, как зверей в зоопарке. Один уставился на мой живот, поигрывает пистолетом, ухмыляется. Пьяный, мало ли что ему в голову взбредет. Тут у меня со страху все и началось. Так закричала, что все бандиты из палаты сбежали. Это случилось около часа ночи.
– Выходит, вы обе – героини, и вам полагаются боевые награды.
– Шутишь, а нам было не до смеха. Мне страшно, Коля. Никогда не было страшно, а сейчас страшно. Как мы доберемся до дома?
– Внизу Марфа ждет в санях. Платок надвинь на лоб и щеки прикрой.
Лизин страх невольно передался и ему. Впервые он ощутил опасность, связанную с тем, что Лиза – еврейка. Ее прекрасные, глубокие глаза не только привлекали своей красотой, но и выдавали ее национальность. Он взял на руки девочку и приказал Лизе уткнуться лицом в его плечо. Но теперь на них никто не обращал внимания. Часть людей спала на полу вдоль стен, оглашая коридор густым храпом, другие сидели на подоконниках и щелкали семечки, сплевывая шелуху на пол. Успокоился только, когда в санях придвинул к себе ружье.
– Случилось что? – забеспокоилась Марфа, почувствовав в этом его движении что-то неладное.
– Так, проверил для порядка. Держите крепче ребенка, прокачу вас с ветерком, – сказал он, с силой дернув вожжи и выводя из сонного состояния застоявшуюся лошадь. Та нехотя сдвинулась с места и, поняв, что они едут обратно и, возможно, дома ей перепадет лишняя порция овса, чуть быстрей, чем раньше, затрусила по улице.
Неожиданно от забора отделилась женская фигура и бросилась к ним навстречу, чуть не угодив под лошадь. Лиза вскрикнула от испуга. Николай и Марфа соскочили на землю.
– Это же София, – узнала Марфа, – дочь корчмаря Ясиновского. Гайдамаки на днях заманили ее к себе и снасильничали. Она и так была не в своем уме, а теперь совсем свихнулась.
– София, вы не ушиблись? – озабоченно спросил Николай, стряхивая с нее снег. Та что-то быстро-быстро повторяла, грозя кому-то кулаками и выкрикивая: «Гореть, гореть вам всем в аду синем пламенем…».
– Вот некстати, – сказала Марфа. – Что с ней делать?
– Посадим в сани. Отвезу вас с Лизой домой, потом ее к Юзефу.
– Куда же ее рядом с дите? Ты лучше отвези Лизу, а я тут с ней постою. Потом за нами приедешь.
Елену Ивановну расстроила история с Софией: она расценила ее появление и безумные выкрики как дурной знак, предсказывающий беду. Николай пошутил над ее суеверием и повернул сани обратно. Однако мамины слова подействовали и на него: стало тревожно на душе. Обманутая в своих ожиданиях по поводу овса, лошадь упрямилась, не желая никуда ехать. Николай сердито ворчал на нее, дергал за вожжи и только, когда прошелся кнутом по ее худым бокам, сдвинулась с места. Завернув за угол, он увидел на дороге Марфу.
– А где София?
– Сбежала. Кричала, ругалась, затем вырвалась из рук и была такова. Завтра скажу Юзефу, пусть ее поищет.
– Иди, Марфа, успокой наших, а я лошадь отведу к Афанасию и задам ей корма. Старики, наверное, волнуются, не спят.
Когда он вернулся, в доме шла обычная в таких случаях суета. Ребенка вымыли, завернули в нарядное одеяло с красной лентой, уложили в кроватку, которую еще мастерил Илья Кузьмич, и в ней выросли все младшие дети. Для Лизы в летней кухне организовали баню, а, так как дрова теперь были в дефиците, устроили банный день для всех, за ним – и большую стирку.
К вечеру потянулись соседи с поздравлениями и подарками. Мама и Елена Ивановна выставили на стол угощенье: пироги (постные по случаю поста), картофель, соленья, сладости, ну, и, конечно, свое домашнее вино и различные наливки. Лиза из-за того, что чувствовала еще слабость, больше лежала, но иногда выходила к гостям принимать поздравления.
Мужчины шумно разговаривали и произносили тосты за здоровье родителей и дочек. Женщины заглядывали в комнату, где стояла кроватка с малюткой. Пришли Агриппина с дочерью. Марфа не пустила их смотреть дите и быстро выпроводила домой.
– А где Агриппина с Ганной? – спустя какое-то время спросил ее Николай.
– Ушли.
– Так быстро?
– Нечего Ганке тут делать. Зависть ее мучает. Хворобу еще какую наведет на Лизу и Оленьку.
– Что нам завидовать? Пусть своих детей заведет, никто не запрещает.
– Не дает ей бог детей. Да и не любит она мужа, по тебе все сохнет.
– Скажешь, Марфа. Сколько можно старое вспоминать?
– Горбатого могила исправит.
К ночи гости разошлись, в доме все давно спали, только счастливые родители еще долго бодрствовали. Николай то и дело подходил к детской кроватке, чтобы полюбоваться малышкой. Он никак не мог поверить, что у него родилась дочь.
– Сколько ты еще сможешь здесь пробыть? – спросила Лиза, расчесывая свои пышные волосы, успевшие за последнее время сильно отрасти.
– Неделю, не больше, но я обязательно вырвусь после съезда, хотя бы дней на пять к Новому году. Вы на меня не можете обижаться, я часто приезжаю.
– Когда ты нас заберешь в Харьков?
– Когда Олечка подрастет.
Лиза надулась, как обиженный ребенок.
– Это очень долго.
– Надо, Лизонька, потерпеть. Скоро лето, пойдут фрукты, ягоды. И мама с Марфой рядом, я за вас могу быть спокоен.
– Мы с Верой и Олечкой, – сказала она, нажимая особенно на детей, – хотим быть с тобой. И потом я тоже могу помогать федерации: печатать на машинке или работать с детьми. Не забывай, что я – дипломированный воспитатель, к тому же с музыкальным образованием. У многих есть дети, я организую для них специальную группу или музыкальный кружок. Будем устраивать концерты.
– Милая моя, девочка, – он обнял ее за плечи и притянул к себе. – Я сам буду о вас очень скучать, давай хотя бы ближе к следующей осени.
– Так долго, почти год. Ну, хорошо, – согласилась Лиза, понимая, что Николай прав и надо в первую очередь думать о детях, – но не позже.
ГЛАВА 4
В некоторых вопросах Елена Ивановна была чрезвычайно упряма, переубедить ее было не только трудно, но и невозможно. В таких случаях Лиза узнавала в ней знакомый характер мужа. После того, как Николай уехал в Харьков, свекровь сказала Лизе, что Олю обязательно надо крестить. Они с Колей могут в Бога не верить, а ребенок в этом сам разберется, когда вырастет. Нельзя, чтобы в такое суровое время малое дите оставалось без защиты Всевышнего и ангела-хранителя. Марфа ее поддержала. Обе не могли забыть историю с безумной Софией.
Из сундука вытащили белую материю. Елена Ивановна сама скроила и сшила крестильную рубашку, крыжму, чепчик. Делала она все с большой любовью, основательно, как будто шила вещи на всю жизнь, а не на одну церемонию, которую отец Никодим – настоятель соседнего храма, обещал провести быстро, так как там было холодно.
– Кто же будет крестными родителями? – спросила Лиза.
– Будет одна крестная мать – Олеся. Сейчас ей четырнадцать, через три года станет совсем взрослой. Лучшей восприемницы не найти. Посмотри, как она возится с Верочкой.
Во время крещения Лиза была на улице. Холод загнал ее в храм. Стоя около дверей, она видела, как отец Никодим читал молитвы и задавал крестной матери вопросы, Олеся уверенно на них отвечала. Наконец священник три раза погрузил расплакавшуюся малышку в купель. Олеся держала наготове крыжму. Вместе с Марфой они быстро просушили тело девочки, надели крестик, крестильную рубашку и завернули в ватное одеяльце.
В этот день Елена Ивановна, обычно мало рассказывавшая о себе, стала вспоминать свою молодость, княгиню Шаповал, которая приходилась родственницей попадье в одном полтавском храме. В доме настоятеля этого храма, отца Сергия, они и познакомились с Ильей Кузьмичом.
– Как же вы его полюбили, ведь он был простым сапожником? – спросила Лиза, любуясь ее лицом, все еще хранившим остатки прежней красоты.
– Он мне сразу понравился, как только мы познакомились. Чужой вроде человек, а казался близким, родным. И уж очень был хорош собой, как из сказки об Иване-царевиче. Я ему тоже понравилась. В первый же день он сделал мне предложение. Тогда я ему ничего не могла сказать. Пробыли мы в гостях недолго, и вскоре уехали. В следующий раз встретились через два года на похоронах попадьи. Ильюша снова завел разговор о женитьбе, сказал, что все это время думал обо мне, пытался даже разыскать. И опять увидела я в нем родство душ. Отец Сергий был на стороне Ильи, расхвалил его тетушке. В лице этого человека сам Господь благословил нас, обвенчал и всегда поддерживал. Сколько было в нашей жизни тяжелых моментов, все переносили. Вот и вам бы с Колей обвенчаться в церкви. Ты бы, Лизонька, приняла Православие, – неожиданно сказала она.
Лиза напряглась: она не думала, что этот доверительный разговор между ней и свекровью перейдет на такую тему. Она согласилась на крещение Оли, но сама не собиралась менять веру и надеяться в жизни на какого-то Бога.
– Мама, я не верю в Бога и никогда не смогу заставить себя читать молитвы и выполнять все обряды. Это все – ложь и обман.
– Зря ты так, Лиза. Неужели ты и в своего Бога не веришь?
– В детстве верила, потом перестала.
Лиза вспомнила, как на Хануку они каждый вечер собирались вокруг стола с ханукией, и Григорий Аронович торжественно зажигал новую свечу. На глазах ее выступили слезы.
– Мой папа был членом екатеринославской общины, помогал бедным, давал всем деньги. На праздники мы с мамой объезжали с подарками приюты и больницы. И что же? Папа умер на пароходе, а мои родные в Нью-Йорке так нищенствовали, что мама вынуждена была продавать на улице мороженое. А еврейские погромы? Разве Бог – наш или ваш, если бы он, действительно, существовал, может допускать такое зло? Или он нас сильно ненавидит? Только за что? Что сделали люди, которых раньше убивали черносотенцы, а теперь убивают все подряд? Кого обидела несчастная София?
– Это испытание свыше.
– Для чего? Чтобы принять новое испытание?
– Всевышнего нельзя осуждать, – сурово сказала Елена Ивановна, и лицо ее, освещенное приятными воспоминаниями, нахмурилось.
Лиза не понимала, почему свекровь, обычно тактичная в вопросах веры и Лизиной национальности, завела этот неприятный для нее разговор. Хотя догадаться было нетрудно: по всей Украине и в самих Ромнах шли страшные погромы, в которых участвовали и бывшие черносотенцы, и гайдамаки, и бандитские шайки.
Несколько дней назад на Почту пришли гайдамаки, чтобы узнать, где в Ромнах проживают богатые евреи. В конторе оказался один Дорошенко. «Ты должен тут всех знать, – пристали они к нему. – Не скажешь, отрубим язык». Аникий Дмитриевич и так от страха лишился дара речи. Бандиты повалили его на пол и били нагайками, пока он не потерял сознание. Хорошо, в этот момент кто-то зашел в помещение почты и, увидев экзекуцию над стариком, побежал звать на помощь. Митрича спасли. Его дочь, узнав, в чем дело, рассказала об этом Елене Ивановне. Вот почему та затеяла с невесткой разговор о религии и венчании, ходила вокруг да около, не зная, как перейти к главному вопросу. Наконец она решилась.
– Лиза, дочка, неужели ты не понимаешь, для чего я завела этот разговор? По всей Украине идут еврейские погромы. У Митрича на днях бандиты выпытывали, где в Ромнах живут богатые евреи, чуть не забили старика до смерти. Хорошо Костюка сейчас в городе нет, он всех тут знает и станет первым погромщиком и убийцей.
– Что я ему сделала, мама? У меня муж – украинец, и вы все – украинцы, их давние соседи, близкие люди. Его теща то и дело ходит к нам за мукой и солью.
– Это только предлог, чтобы душу тут отвести. Агриппина сама его боится.
– Может быть, нам все-таки в Харьков уехать, это большой город. Я давно Коле об этом говорю, но он считает, что тут, с вами, надежней.
– И правильно. Куда же в такое время путешествовать с детьми? Кругом разбой, тиф. Нет, я вас никуда не пущу. Пока мы с Марфой живы, вас в обиду не дадим. Вот, веру бы ты сменила, стало бы спокойней.
– Мама, вы успокаиваете сами себя. Никакая вера теперь не поможет.
– Доченька, мне страшно. За всех моих детей страшно. И почта плохо работает. Миша молчит, из Екатеринослава никто не пишет. Где ребята, что с ними? Илья с Ванюшей в это время всегда приезжают на каникулы…
– Они работают в трудовых артелях, наверное, не могут вырваться. Да и Сергей в большевистской власти, они с ним не пропадут.
Лизе казалось, что она нашла веский аргумент для Елены Ивановны, и, чтобы успокоиться самой – этот разговор взволновал и ее, вышла в сад, где Олеся гуляла с девочками. Уезжая в Харьков, Николай дал всем наказ, чтобы не оставляли детей без присмотра даже в собственном саду, такое теперь неспокойное время.
– Иди в дом, погрейся, – предложила она Олесе.
– Я не замерзла. Марфа поставила самовар. Сейчас будем чай пить. Лиза, – таинственно произнесла Олеся, придвигаясь к ней и заглядывая ей в глаза, – что ты чувствовала, когда первый раз влюбилась?
– Ого, – воскликнула Лиза. – Мы влюблены. Рассказывай, в кого. Да я и так знаю, во внука Митрича, Ваню Прокопенко.
– Откуда ты знаешь? – покраснела девушка.
– Он целый день вертится около ворот, ожидая, когда ты куда-нибудь пойдешь. И в церкви я его сегодня видела. Что ты так смутилась? В этом нет ничего стыдного. Любовь – самое прекрасное, что может быть. Ничего на свете больше не существует, только тот, которого ты любишь, и все мысли – о нем. Все вокруг становится другим.
– Мама говорит, что мне еще рано с парнями встречаться, а Марфа гоняет Ваню от ворот. Вдруг он от меня откажется и влюбится еще в кого-нибудь? Я тогда умру от горя.
– На Ваню это не похоже, он – серьезный товарищ.
– Ты, правда, так думаешь?
– Зачем мне тебя обманывать?
Лиза обняла девушку. Олесе было 14 лет, чуть меньше, чем ей, когда она увидела на городском митинге Николая и решила завоевать его сердце. Как давно это было, а чувства с тех пор не изменились: и страсть, и волнение после долгой разлуки, и желание быть красивой, видя в глазах мужа восхищение.
– О чем ты задумалась, Лиза?
– Да так, о своем. Сейчас кругом бог знает что творится, а есть и радость – наша девочка влюбилась. Это так хорошо.
Пятого января на имя Лизы пришла телеграмма из Умани. Осторожный Митрич долго ее рассматривал и на всякий случай вручил Елене Ивановне. Та, не имея привычки читать чужую почту, отдала ее невестке. Прочитав ее, Лиза вскрикнула и без сил опустилась на стул.
– Доченька, что случилось?
– Диму убили гайдамаки. Похороны 7 января. Что же делать? Надо послать Коле телеграмму. Может быть, он сможет туда поехать? У Димы, кроме нас, никого из родных нет …
Николай узнал об убийстве Дмитрия из газет. Тот был крупным политическим деятелем большевиков: руководителем Уманского комитета РСДРП и членом ЦИК Советов Украины, избранным недавно на I Всеукраинском съезде Советов. Его убили вместе с председателем Уманского Совета депутатов Урбайлисом украинские националисты из «Куреня смерти». В эти же дни при таинственных обстоятельствах был убит руководитель киевских большевиков Леонид Пятаков. Так Рада расправлялась с деятелями советской власти.
По просьбе Лизы Николай поехал в Умань. В парке «Софиевка» (Царицын сад с водопадами, гротами, прудами), построенном графом Станиславом Потоцким для своей жены Софии, ему показали здание Главного училища садоводства, в котором когда-то учился Дима, но не успел его окончить, сбежав от преследований полиции за границу.
Похороны и митинг проходили в центральном сквере города. Собралось много народу. Звучали торжественные речи. Об обоих убитых говорили много теплых и возвышенных слов. Николай почти ничего не знал о Ружинском. Лиза избегала разговоров о своих отношениях с ним, как будто хотела забыть о нем раз и навсегда. Кто-то из бывших эмигрантов рассказал, что в США он был членом русского отделения организации «Индустриальные рабочие мира», организовывал в Нью-Йорке и других городах рабочие митинги и забастовки, писал статьи в рабочие газеты.
В его квартире оставались бумаги, письма, фотографии его родителей-поляков, погибших во Львове во время войны, детские снимки (мальчик в платье), где Верочка удивительно похожа на отца в этом возрасте.
В другом пакете он нашел общие фотографии Лизы, Дмитрия и Веры, сделанные в Америке где-то на пляже, на пароходе, в сквере около их дома, и одна – в Ромнах (Николай знал, что Дмитрий приезжал к ним домой), на ней стоял штамп фотоателье Кожуха. Было такое чувство, что он заглянул в чужую жизнь.
Он упаковал весь архив в чемодан, чтобы передать его Лизе: Вере будет интересно со всем этим ознакомиться, когда она вырастет.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ИНОЗЕМНОЕ НАШЕСТВИЕ
ГЛАВА 1
Последнее время Михаил Даниленко редко виделся со своим тестем Петром Григорьевичем Рекашевым. Тот теперь входил в Центральную Раду и целыми днями был занят, то участвуя в заседаниях Рады и правительства, то выступая на митингах и собраниях. Делал он все с большим энтузиазмом. Трудно было поверить, что этот человек еще совсем недавно был ярым монархистом, а после февральской революции, как и все киевские черносотенцы, обвинил Шульгина и Гучкова преступниками за то, что они заставили Николая II отречься от престола. Но этот русский патриотизм оставался в нем недолго. Вскоре он близко сошелся с Михаилом Грушевским и, став его соратником в борьбе за независимость Украины, пошел по следам своих братьев – Сергея и Федора. Сергей Григорьевич тоже входил в Раду от Всеукраинской рады военных депутатов и занимался организацией национальных украинских войск. Федор после революции перебрался в Вену, чтобы оттуда поддерживать сепаратистов и доставать для них деньги.
Братья вспомнили, что их род имеет древние корни и по отцовской линии принадлежит к украинской казачьей старшине, берущей свое начало от легендарного полтавского сотника Василия Забудько. В кладовых еще хранились потемневшие от времени портреты далеких предков, знатных атаманов Запорожской сечи, награды, жалованные тем за хорошую службу, пернач, посохи, нашлись даже казачьи жупаны и сабли. Все это вытащили на свет божий, привели в порядок, проветрили, почистили, искусно заштопали там, где поработала моль, а сабли так отполировали, что они заблестели, как новые.
Портреты предков развесили в обоих домах рядом с портретами гетмана Мазепы, мечтавшего о создании независимой Украины и призвавшего в свое время на помощь в борьбе с Петром I шведского короля Карла XII. Жупаны носить, конечно, никто не собирался, а одну из старинных кривых сабель Сергей Григорьевич надевал на публику, когда выступал в военной форме перед депутатами Рады или солдатами украинских полков.
Националистические взгляды Петра Григорьевича и Сергея Григорьевича теперь уже против России и «кацапов-москалей» (раньше они направлялись против евреев) были глубоко чужды Михаилу. Он категорически не поддерживал идеи об изменении статуса Украины: ни ее автономии в составе России, ни тем более как самостоятельной, суверенной республики. Также он не принимал и не понимал февральской революции, считая, что ее совершили далеко не умные люди, действовавшие в угоду своим личным интересам.
Михаил был растерян. Как офицер, присягавший на верность царю и Отечеству, то есть России, он вынужден был предать это отечество (царь был предан другими) и подчиниться новой власти: Центральной Раде. Его участие в войне с Германией, боевые награды, потеря руки – все это оказалось напрасным и никому ненужным делом. Так же, как теперь оказалось не нужным его адвокатское занятие, принесшее ему когда-то в Киеве известность. Все судебное производство ныне захлестнул политический сепаратизм, а на первое место ставилось знание украинского языка. И уж совсем не было желания работать в Раде, чего настойчиво добивался от него Петр Григорьевич. Михаил остался без дела и не мог найти достойного занятия на гражданской службе. Хуже того, он потерял ко всему интерес.
– Поймите же, вы, наконец, Михаил Ильич, – убеждал его Рекашев. – Той России, которую вы защищали на фронте, нет. Монархия пала. Николай II сам отрекся от престола. Кто кого предал: вы его или он вас, слабый, безвольный человек, подтолкнувший народ к революции? В России теперь хаос, братоубийство, голод. Вы же не хотите, чтобы то же самое происходило на Украине? Пусть они копаются в собственных испражнениях, а мы будем строить свое сильное и богатое государство. На Украине для этого все есть.
– Вы сами еще недавно боготворили Николая и кляли большевиков, которые разлагают фронт, – возмущался Михаил двурушничеством тестя. – Если Россия потерпит в войне поражение, для Украины это будет конец.
– Зря вы отказываетесь работать с нами. Раду ругают за то, что она не проводит реформы, а у нас для этого нет профессионалов. Грушевский неоднократно спрашивал о вас. Неужели вы не хотите принести пользу своей родине?
– То, что вы сотворили с Украиной, – это не родина. Вы жалуетесь, что некому проводить реформы, но ведь Рада сама в этом виновата. Набирает на службу одних украинцев, людей, совершенно ни в чем не сведущих, прежних выгоняет только за то, что они не сочувствуют вашим идеям или не знают украинского языка. Ведь это абсурд. Вся ваша политика построена на ненависти, а это никогда не приводит к нужным результатам.
– У вас, мой милый, хандра, вам надо заняться делом.
Эти слова, произнесенные не первый раз, Михаил воспринимал, как упрек в том, что они с Марией и Катей живут на его небольшое пособие по инвалидности, и тесть вынужден им помогать. Самолюбие его страдало.
После этого разговора они долго не виделись. За это время в России произошла новая революция, на смену Временному правительству пришла власть большевиков. Совет народных комиссаров, с самого начала не признававший Центральную раду и отделение Украины от России, начал с Радой переговоры, потом, видя бесполезность этого дела, их прервал и объявил ей войну. Красная армия вступила на территорию Украины.
С тоской и болью смотрел Михаил на эти события. Он по-прежнему не мог найти приличную работу и ждал 25 января – день рождения Петра Григорьевича (ему исполнялось 60 лет), когда они с женой и дочкой пойдут к Рекашевым в гости. Тесть непременно заведет разговор о его работе в Раде или правительстве, и Михаил согласится войти в Министерство юстиции. Может быть, действительно, занимая там какой-нибудь крупный пост, он сможет принести пользу: навести порядок в судебных учреждениях и освободить из тюрем сотни людей, задержанных без санкций прокуроров и не знающих, за что они сидят.
Как назло, обстановка на Украине в эти дни резко ухудшилась. Двигаясь в разных направлениях, советские войска захватили Донбасс, Харьков, Екатеринослав, Полтаву и, соединившись в районе Конотоп – Бахмач, подходили к Киеву. Готовясь к их приходу и желая им помочь, рабочие – большевики города, устроили восстание на заводе «Арсенал» и других предприятиях, и его вот уже несколько дней пытались подавить украинские части Рады и гайдамаки Петлюры.
Стрельба на улицах шла постоянно. Трудно было определить, идут ли это бои между рабочими и войсками Рады, или орудуют банды мародеров, которых видимо-невидимо развелось в самом городе и его окрестностях, а, может быть, это уже входят передовые части Красной армии под командованием полковника Муравьева, прославившегося крайней жестокостью и кровавыми расправами над населением.
Справлять юбилей в такой обстановке было безрассудством. Но Петру Григорьевичу хотелось собрать у себя нужных людей, лишний раз продемонстрировать свою приверженность нынешней власти. Теперь это был новый круг знакомых: члены Центральной и Малой Рады, офицеры из полка Хмельницкого (друзья Сергея Григорьевича, ставшие теперь их общими друзьями). Место профессоров Сикорского и Никольского заняли другие господа из университета, якобы давно мечтавшие о независимости Украины и ее освобождении от российского гнета.
Исчезли и бывшие соратники Рекашевых из числа священнослужителей и преподавателей киевских духовных учреждений. Одни из них – таких было немного, поддерживали идею националистов («комиссаров Церковной рады») об автокефалии украинской православной церкви, другие, как их бывший друг и соратник протоиерей Иоанн, оставались верными слугами Русской церкви, членами «Союза русского народа» и, наверное, предали анафеме обоих Рекашевых. Братьев это не особенно заботило: вместе с новыми национальными идеями у них исчез интерес и к русскому духовенству. Даже, когда к Петру Григорьевичу, как к члену Рады, пришла группа знакомых священников с жалобой на то, что националисты устраивают разного рода провокации с целью захватить храмы, в том числе и Софийский собор, он отказался им помочь, сославшись на то, что этот вопрос находится не в его компетенции. При этом Петр Григорьевич знал, что протоиерей Иоанн оставался духовником Марии и Ангелины Ивановны, но помочь ему не захотел.
… Всю ночь где-то на окраине гремели пушки, трещали пулеметы. Утром стрельба стихла, но никто не мог сказать, что там происходит, так как газет не было. Воспользовавшись затишьем, Михаил после завтрака отвез жену и дочь к Рекашевым, сам обещал подъехать к пяти часам, когда собирались все гости.
Дома он стал обдумывать, как намекнуть Петру Григорьевичу о том, что согласен работать в Раде, чтобы это не выглядело особенно унизительным. В квартире находились еще кухарка Татьяна, слуга Харитон и няня Евдокия Христофоровна, жившая у них последние два года. Старушка стала совсем дряхлой, плохо видела, но всех согревала своей душевной теплотой и лаской. Особенно жалела она Михаила, потерявшего на фронте руку. Вот и сейчас, увидев, что он нервно ходит по кабинету и чем-то озабочен, подошла к нему и стала утешать, как маленького ребенка.
– Ты, батюшка мой, – вглядывалась она в его лицо своими подслеповатыми глазами, – не печалься, что черная полоса настала. Жизнь-то она вся состоит из этого: то радость, то горюшко. Вон солнышко за окном улыбается, и ты улыбнись. Печаль-то и уйдет.
– Добрая вы душа, нянюшка. Да время такое, что теперь не скоро все изменится.
– Бери пример с Петра Григорьевича. Правильный он человек, знает, как надо жить. Был высоко, и еще выше взлетел.
– Не умею я так жить, нянюшка. И не хочу, чтобы Катенька так жила.
– Гордыня в тебе говорит, голубь мой, гордыня…
– Гордыня – это, когда человек ставит себя выше других, а я, няня, привык сам всего добиваться и не хочу ни от кого зависеть.
– А ты помни, что ты не один. Бог рядом с тобой. Скажи себе: «Хоть я и песчинка малая, но и обо мне Господь печется. И да свершится надо мною воля Его»…
Не успела она договорить, как рядом с домом что-то ухнуло и разорвалось. Стоявшие на подоконниках цветы в горшках с грохотом свалились вниз.
– Свят, свят, свят, – затряслась и истово закрестилась старушка. – Никак окаянные большевики наступают.
В коридоре хлопнула входная дверь. Не постучавшись, в кабинет вошел слуга Харитон. Его бледное лицо перекосилось от страха, ноги подгибались, вот-вот упадет. Михаил заботливо усадил старика на диван.
– Что происходит, Харитон? Вы выходили на улицу?
– Нет, ваше благородие. Только в подъезд. Там полно народу. Сказывают, большевики вошли в город. Повсюду идут бои.
– Сидите все тут и не выходите из дома.
Взяв в коридоре пальто, Михаил стал неловко одной рукой натягивать его. Харитон встал, чтобы ему помочь, и обессиленный опустился на диван.
– Куда же вы, ваше благородие? Стреляют, аккурат по нашей улице…
– Пойду к Рекашевым. Может быть, придется у них остаться на ночь. А вы никуда не выходите, – опять повторил он. – Еды хватит на несколько дней, и дверь никому не открывайте. Евдокия Христофоровна, присмотрите за Харитоном. Дайте ему капель от сердца.
С трудом поднявшись, Харитон упал ему на грудь.
– Ваше благородие, Михаил Ильич, ведь убьют вас. Что мы скажем Марии Петровне? О Катеньке, доченьке подумайте…
Старик зарыдал, и в тон ему заплакала Евдокия Христофоровна. Он даже не мог их обнять своей одной рукой, погладил Харитона по плечу, няню поцеловал в щеку.
Внизу толпился народ: свои жильцы и прохожие, спрятавшиеся в подъезд от обстрела. Толком никто ничего не знал. Одни говорили, что большевики взяли центр города, другие, что войска Рады сдерживают их на Подоле.
Михаил пытался пробиться к выходу. Его останавливали, говоря об опасности.
– Ради бога, – умолял он в отчаянье, – мне срочно нужно по важному делу.
Он сам понимал, что выходить на улицу под артиллерийским огнем подобно самоубийству. Разумней было вернуться назад и позвонить Рекашевым (почему он сразу это не сделал?) по телефону, но кто-то сказал, что линия перебита, и телефон не работает. Его образумил очередной взрыв на улице. Толпа испуганно притихла. Вскоре отключили электричество, и подъезд погрузился в темноту.
Неизвестно сколько прошло времени: полчаса, час, полтора… Вдруг стало непривычно тихо. Михаил приоткрыл дверь. Улица была пустынна, только какой-то мужичок, видимо, ограбивший где-то лавку или склад, сгибаясь от тяжести, тащил на спине два мешка. В одном мешке была дырка, из нее вытекала на землю белая струйка муки. «Преступник оставляет следы», – горько усмехнулся Михаил и решительно шагнул за порог.
Быстро темнело. Фонари не горели. Редкие люди выходили из подъездов и, оглядываясь по сторонам, направлялись в нужную им сторону. Боялись темноты, боялись друг друга, боялись грабителей, убийц, мародеров, и больше всего, что снова начнется обстрел.
На Бибиковском бульваре в шестиэтажном доме известного юриста Григория Боброва, отца убийцы Столыпина – Дмитрия Богрова, полыхал пожар. Во флигеле этого дома Дмитрий жил и вел довольно беспечный образ жизни. И вот они парадоксы жизни. Одни бандиты недавно свалили памятник Столыпину, другие, их идейные враги, ненароком подожгли дом убийцы премьера.
Огонь ярко освещал особняк Рекашевых с плотно зашторенными окнами. Раньше, когда съезжались гости, вдоль него на мостовой выстраивались конные экипажи. Теперь этот транспорт заменили автомобили. Сейчас их было немного: тех гостей, которые успели приехать к юбиляру до начала обстрела. Среди них выделялся трофейный опель Сергея Григорьевича, привезенный им из командировок на фронт. Этот опель был тайной завистью старшего брата.
Михаил долго стучал и дергал дверь. Наконец с той стороны раздался испуганный голос Андрея, слуги Петра Григорьевича:
– Кто там?
– Андрей! Откройте ради Бога. Это я, Михаил Ильич!
Услышав его голос, сверху по лестнице спускались Мария и Катя. Девочка от радости повисла у отца на шее. Маша в волнении повторяла, что они в начале обстрела связались с Харитоном, и тот сказал, что Михаил давно ушел. Она сходила с ума.
– Ты бы, Миша, лучше остался дома, – ласково сказала она, прижимаясь к его груди.
– Как я мог там оставаться, не зная, что тут с вами?
В гостиной, ярко освещенной свечами в бронзовых подсвечниках, купленных недавно в большом количестве из-за частого отключения электричества, собралось уже несколько гостей. Михаил увидел своего бывшего коллегу Николая Владимировича Порша, назначенного министром военных дел вместо Петлюры, превысившего свои полномочия в переговорах с советским правительством и спровоцировавшего военный конфликт между УНР и Советской Россией. Была и другая, не менее весомая причина отставки Симона Васильевича, – Грушевский и особенно честолюбивый Винниченко опасались его возрастающей популярности в украинизированных частях киевского гарнизона. Отстраненный от дел Петлюра решил для борьбы с большевиками самостоятельно сформировать в Киеве особое боевое военное подразделение — Гайдамацкий кош Слободской Украины.
Поршу было далеко до своего предшественника. До войны он занимался нечистыми делами и был исключен из сословия адвокатов. В военном деле ничего не понимал, армии не знал. Месяц назад он заявил, что не надо бояться советской власти и вступать с ней в переговоры, так как с Западного фронта движутся украинские части в количестве ста тысяч человек, до середины января они с треском выбьют большевиков из страны. Даже после потери всех крупных городов он успокаивал членов Рады, что дальше советские войска продвигаться не будут. И вот цена его прогнозу – большевики подошли к Киеву или уже вошли в него.
Рядом с Поршем сидел генерал Лука Лукич Кондратович, тоже хорошо известный Михаилу по военной службе. Этот стал националистом еще до создания Рады и по собственной инициативе посылал в армию людей, агитирующих солдат-украинцев переходить в украинские полки. Тогда ни он, ни Петлюра не добились того результата, на который рассчитывали: солдаты-украинцы кочевали из полка в полк, поддерживая то большевиков, то войска Рады, а то и вовсе разбегаясь на все четыре стороны.
В кресле с бокалом вина развалился доктор Иван Митрофанович Луценко, организатор казачества на Украине. Доктор ненавидел все русское, хотя, будучи в России военным врачом, сумел там дослужиться до надворного советника. Теперь он хотел полностью возродить старое казачество и перестроить Украину на казачий лад. Петр Григорьевич не только приветствовал эту идею, но и вкладывал в ее осуществление немалые деньги. Такая им вдруг овладела страсть ко всему украинскому.
Были еще другие люди, но их Михаил видел первый раз. Все они приехали сюда с какого-то заседания до начала артобстрела, успели слегка закусить и в ожидании остальных гостей и званого обеда пили в гостиной вино и закусывали легкими бутербродами и фруктами.
Наступление Красной армии застало гостей врасплох. Порш пытался связаться с военным комендантом Михаилом Ковенко и начальником Киевского военного округа Николаем Шинкарем, занимающимся обороной города. Он то и дело подходил к молчавшему телефону, нервно дергал ручку аппарата и усиленно дул в трубку, но все было бесполезно.
Появление Михаила встретили радостными возгласами. Услышав, что на улицах советских войск нет, первым ушел Порш. Слышно было, как за окном долго тарахтела и фыркала его машина: шофер никак не мог завести мотор. В последующие полчаса разошлись и все остальные гости.
Остались Сергей Григорьевич, его жена и младшая дочь Татьяна. У Татьяны было грустное лицо. Война расстроила ее планы выйти замуж за офицера Генерального штаба, которого для нее в Петрограде присмотрела старшая сестра Елена в доме их родственников Жилинских. Третья их сестра Ирина еще до войны вышла замуж за инженера-металлурга из Мариуполя и жила теперь там.
Петр Григорьевич предложил родным пройти в столовую, отведать «скромный» обед, состоявший, однако, из большого количества салатов, мясных и рыбных блюд (холодных и горячих); были также балык из осетрины, отварной говяжий язык и копченая треска, фаршированная овощами. К ним подавались коньяк и вина дорогих марок. Все было заранее куплено за немалые деньги в магазинах и на базаре.
После того, как произнесли тосты за здоровье юбиляра и всех его близких, Петр Григорьевич предложил выпить за важное событие в жизни Украины – провозглашение ее свободной суверенной державой. Об этом недавно объявил IV Универсал, принятый Радой в ответ на вторжение советских войск на Украину.
– Как много у нас теперь планов, – голос Рекашева зазвенел от подступивших к горлу слез гордости, – народ поверит Раде и сам отвергнет советскую власть.
– Если большевики нам не помешают, – охладил его пыл младший брат.
– Они, наверное, разбомбили весь Киев, – добавил Михаил. – Если они и дальше продолжат свое наступление, то разорят всю Украину…
– Тогда Раде придется пойти на крайние меры, – Петр Григорьевич произнес это каким-то таинственным голосом и замолчал. То, что он хотел сказать, пока обсуждалось в узком кругу людей, куда не входил даже Сергей Григорьевич.
– Договаривай, раз начал, – с обидой сказал тот.
– Надеюсь, все останется между нами. Рада сама, без России, хочет заключить сепаратный мир с Германией, позвать сюда немецкие и австрийские войска, чтобы выгнать большевиков.
Михаил даже подпрыгнул от такой новости.
– Что? – воскликнул он, резко срывая с шеи накрахмаленную салфетку, – позвать врагов на нашу землю? Это предательство, даже хуже: убийство собственного народа. Столько людей погибло на фронте, я, я…потерял руку, а теперь германцев хотят сюда пригласить хозяйничать, да еще наверняка не просто так, а в обмен на наши сало и хлеб.
– Успокойтесь, Михаил Ильич, это только кулуарный обмен мнениями, сам Грушевский ничего не знает.
– А я приветствую это решение, – вставил Сергей Григорьевич. – Немцы наведут порядок и избавят нас от большевистской заразы.
– На что годится ваша Рада, если сама ничего не может сделать. Ваши универсалы – пустые, никому не нужные бумаги. Раздел земли без выкупа…, – зло усмехнулся Михаил. – Вы, господа, опоздали: крестьяне давно захватывают землю и без всяких выкупов. Больше я не намерен слушать ваши прожекты. Маша и Катя, собирайтесь. Идемте домой, пока стрельба не возобновилась.
Женщины еле его успокоили. Ангелина Ивановна предложила всем остаться у них до утра, а пока приступили к чаю: к нему были куплены дефицитные по нынешним временам конфеты и пирожные.
Михаил быстро выпил одну чашку и ушел в отведенную им комнату.
– Он стал невыносимым, – сказал Петр Григорьевич, – все оттого, что ничем не занят. Только работа мобилизует человека.
– Папа, Миша сегодня хотел дать тебе согласие войти в министерство юстиции.
– Наконец-то. Грушевский хочет, чтобы его избрали в коллегию Верховного суда. Но, боюсь, что из-за наступления большевиков теперь все это повиснет в воздухе.
Их разговор прервал стук в парадную дверь. Все замерли от страха, решив, что это большевики заняли центр и обходят дома. Петр Григорьевич приказал слуге Андрею спуститься вниз и узнать, в чем дело. Из своей комнаты вышел Михаил.
– Подождите, Андрей, – остановил он слугу. – Я открою.
– Миша, пожалуйста, будь осторожней, – умоляющим голосом произнесла Мария, – дверь не открывай, только спроси.
– Это не большевики, – успокоил ее муж, – стучат слишком деликатно.
Тревога, действительно, оказалась напрасной. Пришел посыльный от премьера Голубовича. Центральная рада и правительство срочно уезжало (бежало) в Житомир, пока Брест-Литовское шоссе оставалось свободным. Рекашеву предлагали выехать туда вместе с семьей.
– Вам нужна машина? – спросил посыльный.
– Нужна. Здесь еще мой брат с семьей, тоже член Рады.
– Мне приказано переговорить только с вами. Возможно, к вашему брату послан другой человек.
– Сергей, ты готов ехать с нами на своей машине? – спросил Петр Григорьевич.
– Готов, – ответила вместе него его жена и обратилась к Ангелине Ивановне. – Лина, вы поделитесь с нами своей одеждой?
– Конечно. Мы сейчас все быстро соберем.
Посыльный ушел.
– Я никуда не поеду, – заявил Михаил. – Мне нечего бояться.
– Как это нечего? – возмутился Петр Григорьевич. – Вы – царский офицер. Вспомните, как матросы расправлялись с ними в Одессе и Севастополе и что сейчас творит у нас Муравьев.
– Я не могу оставить одних Харитона и Евдокию Христофоровну. Они и так напуганы.
– Тогда мы тоже останемся, – не задумываясь, поддержала его Мария.
– Нет, вы обязательно поезжайте. Я посмотрю по обстановке и приеду следом.
– Даже не уговаривай, я тебя не брошу, – упрямо твердила Мария, готовая на что угодно, лишь бы не расставаться с мужем. – А Катюша поедет с дедушкой и бабушкой.
– Я тоже останусь с вами, – заявила девочка.
– Михаил Ильич, – разозлился Рекашев, – из-за вашего упрямства вы готовы погубить всех своих близких.
– Папа, ну зачем ты так. Мы сами способны принять решение.
– Делайте, что хотите, но Катя здесь не останется, – решительно произнес Рекашев и, хлопнув дверью, ушел в свой кабинет.
– Машенька, – Михаил прижал к себе голову жены, – Петр Григорьевич прав, ты должна поехать ради Катеньки.
– Я без папы не поеду, – захныкала Катя. – Папочка, пожалуйста, поедем с нами.
– Девочка моя, успокойся. Большевики долго не продержатся. Говорят, немцы приближаются к Петрограду. Скоро Советам настанет конец.
– Хорошо, – уступила Мария, – мы поедем, если ты дашь слово, что при первой же опасности покинешь Киев и приедешь к нам.
– Ну, куда же я без вас. Конечно, приеду.
Женщины ушли собирать вещи. Михаил вернулся в комнату и тяжело опустился на диван. Он до сих пор не мог успокоиться от разговора с Рекашевыми о немцах, а теперь еще и неожиданное предложение Рады ехать в Житомир. Все окончательно рушилось в их жизни.
Пришла Катя и, усевшись к отцу на колени, обняла его за шею.
– Папочка, я тебе буду каждый день писать письма.
– И я тебе.
– Но ты не знаешь нашего адреса.
– Ты мне его укажешь с первым письмом.
– А туда большевики не придут?
– Если придут, вы поедете дальше, но я вас обязательно найду. Я же вас с мамой люблю больше всего на свете.
– И мы тебя очень, очень любим. Ты у нас самый лучший. Я так и дедушке говорю.
– Ах, ты мое солнышко, – ласково сказал он, целуя дочь в русую головку и стараясь скрыть досаду, что Петр Григорьевич в присутствии Кати позволяет себе его обсуждать, – но ты забыла, что твой папа – адвокат и в защитниках не нуждается. И еще он – офицер. О-фи-цер! – произнес он с гордостью. – Знаешь, кто это такой? Человек, презирающий трусость и подлость.
– Жаль, я не мальчик, а то тоже стала бы офицером, и презирала бы, как и ты, трусость и подлость.
– Девочки тоже могут быть такими.
Катюша незаметно уснула у него на коленях. Поддерживая своей единственной рукой ее голову, он любовался хорошеньким личиком дочери. Как Рекашеву не хотелось, чтобы она пошла в их породу, девочка была копией Елены Ивановны: ее карие глаза, улыбка и ямочка на подбородке, как и у него самого.
На самом деле Петр Григорьевич был рад, что Михаил остается в Киеве и сможет присматривать за особняком. Отдав прислуге все распоряжения, он стоял теперь в кабинете у окна в ожидании машины. На улицах опять строчили пулеметы и ухали пушки. Дом Богрова продолжал гореть, ярко освещая улицу и бульвар со стройными очертаниями тополей. Пламя, вспыхнувшее несколько часов назад на крыше, медленно спускалось с этажа на этаж, пожирая деревянные перекрытия. Это страшное зрелище наводило на него ужас и страх.
– Господи, помоги нам, вырваться из этого ада, – неожиданно для самого себя зашептал Петр Григорьевич и, повернувшись лицом к тому месту, где когда-то висел иконостас, осенил себя крестом и начал неистово молиться. – Грешен я, грешен. Господи Боже мой, Ты знаешь, что для меня спасительно, помоги мне; и не попусти мне грешить пред Тобою и погибнуть во грехах моих, ибо я грешен и немощен; не предай меня врагам моим, яко к Тебе прибегох, избави меня, Господи, ибо Ты моя крепость и упование мое и Тебе слава и благодарение во веки. Аминь.
Затем позвал горничную, приказал достать из сундука иконостас, завернуть его в полотенце и уложить в чемодан.
Другой брат, как военный человек, оставался совершенно спокойным. Распорядившись насчет машины и одежды, он прилег в гостиной на диван и мгновенно уснул.
Машина пришла через три часа, когда нервы у всех были на пределе. Шофер торопил: из-за сильного обстрела Крещатика и Владимирской улицы (большевики прицельно били по Педагогическому музею, где находилась Рада) ему пришлось ехать окружным путем.
Трофейный опель Сергея Григорьевича стоял у подъезда. Вынесли вещи, разместились по машинам. В последнюю минуту Петр Григорьевич решил взять с собой слугу Андрея, которого сначала оставлял дома. Опять началась суета, один чемодан вытащили, и часть одежды переложили в дорожный саквояж меньшего размера.
Но вот все заняли свои места. Последние слова прощания, наставления, поцелуи. Дверцы захлопнулись, и машины растворились в темноте.
Михаил успокоил оставшуюся прислугу Рекашевых и, обещав изредка к ним приходить, направился к себе на Большую Васильковскую.
ГЛАВА 2
Еще несколько дней в Киеве шли непрерывные бои, гремели пушки, падали и рвались снаряды, трещали пулеметы. У Муравьева в арсенале было около семи тысяч штыков, 26 пушек, три броневика, два бронепоезда. Броневики осыпали пулями окна и витрины в нижних этажах. Артиллерия безжалостно громила верхнюю часть зданий. Войска Рады, получившие подкрепление за счет гайдамаков Петлюры и украинских частей, отступивших к Киеву под напором советских войск, упорно сопротивлялись, но силы были неравные. Вскоре они позорно бежали, сдав жителей на произвол судьбы.
Это, наверное, была одна из самых страшных страниц в истории древнего города. Начались массовые грабежи и зверские расстрелы населения. Главный удар обрушился на бывших царских офицеров, независимо от того, принимали они участие в борьбе с советской властью или нет. Задача убийц облегчалась тем, что Рада в своих целях осенью провела регистрацию офицеров, военных врачей и чиновников бывшей российской армии. Солдаты и матросы, обвешанные ручными гранатами и пулеметными лентами, ходили по указанным в этих списках адресам, проводили обыски и уводили свои жертвы на бульвары и в парки. После короткого допроса их там же на месте расстреливали, и вскоре весь город превратился в огромное кладбище.
Искали также членов Центральной Рады и украинского правительства, вольных казаков, гайдамаков, черносотенцев. Досталось и служителям православной церкви. В Киево-Печерской лавре арестовали самого митрополита Владимира и пытались у него узнать, где монахи прячут золото, но тот упрямо молчал, тогда его вывели за ворота лавры и закололи штыками.
Вскоре после того, как Рекашевы покинули город, из особняка Петра Григорьевича позвонила горничная, и, рыдая в трубку, сообщила Михаилу, что «проклятые изверги» ворвались в дом, забрали все, что можно было унести, изнасиловали молодую кухарку Дуню и увели ее с собой. Обещали еще раз прийти, чтобы «посмотреть на пригодность» мебель, оставшуюся в доме.
– Что нам делать, ваше благородие?
– Бросайте дом и расходитесь, кто куда может, а если некуда идти, приходите сюда, на Большую Васильковскую.
– Нам всем некуда идти. Мы все придем.
– Приходите, а дом все-таки заприте.
– Да что толку. Они все закрытые шкатулки и ящики открывали выстрелами из винтовок. Такой грохот устроили.
– Бог с ними. Уходите скорей.
– Ваше благородие, – запричитал Харитон, слышавший этот разговор. – Да куда ж вы их? Вам бы самому, где спрятаться или уехать.
– Куда же от них спрячешься, они теперь повсюду. Хорошо, наши успели уехать…
Харитон давно ликвидировал шинель Михаила и все, что могло выдать его службу в царской армии. Остались только военные награды и документы к ним. Михаил не разрешил их трогать, несмотря на слезные уговоры слуги.
– Эх, ваше благородие, вы себя не жалеете, так подумайте о своей семье. Ведь эти награды – ваши самые главные улики. Убьют изверги, не посмотрят, что вы – инвалид.
– Такой инвалид никому не опасен.
– Так они убивают не за опасность, а за служение русскому государю. Мало ли, что у вас на уме зреет…
Все эти дни Евдокия Христофоровна поддерживала здоровье Харитона, а тут сама слегла, да так что приходилось ее кормить с ложечки. Можно было позвать доктора Пантюкова, жившего на втором этаже, но ходили слухи, что его сын, ротмистр Арсений Пантюков, перешел служить в Красную армию, ходил там чуть ли не в больших начальниках. Возможно, благодаря ему большевики обходили их дом стороной. Но надолго ли?
Пришли люди Рекашевых. Дворник бросился Михаилу в ноги.
– Ваше благородие, за нами от самого дома увязался какой-то человек, мы от него пытались избавиться и пошли обходным путем. То ли он отстал, то ли на маневр какой пошел, вы уж не обессудьте, ваше благородие, подвели мы вас.
– Зачем же вы пришли сюда, сукины дети? – закричал Харитон. – Мы его благородие оберегаем, а вы его под монастырь подвели.
– Успокойтесь, Харитон, – остановил его Михаил, – если большевики захотят сюда прийти, они дорогу сами найдут. Проведите лучше людей на кухню, пусть Татьяна поставит самовар.
Весь день прошел в суете, наступил вечер. За окном валил снег, свистел ветер, но он не мог заглушить звуки выстрелов. Харитона одолевала тревога. Он то и дело подходил к окну в столовой и воспаленными от бессонных ночей глазами вглядывался в темноту. Семьдесят лет он живет на свете. Служил камердинером у Петра Григорьевича, потом, когда его дочь Мария вышла замуж за адвоката Даниленко, Рекашев предложил ему перейти в услужение к Михаилу Ильичу. Он перешел с неохотой, так как привык к старому хозяину и его семье. Но и молодой хозяин оказался не хуже, да чего уж там говорить, Харитон привязался к нему всем сердцем и полюбил, как сына, за доброту и уважение к простому человеку.
Пурга усиливалась, за плотной стеной снега ничего не было видно. Вдруг послышался шум подъехавшей машины. Он внимательно вгляделся в черное пятно, застывшее около дома… Грузовик! Из него выскочили люди и быстро вошли в подъезд. У Харитона от страха сжалось сердце, он пошатнулся и, держась за левый бок, опустился на соседний стул. Дом был большой, квартир в нем было много, но он нутром чувствовал, что эти люди приехали к ним.
Горничная Рекашева в это время находилась в комнате нянюшки, дворник и швейцар отдыхали в людской. Сам Михаил был в кабинете и делал записи в дневнике, описывая события последних дней: приход большевиков в Киев и их зверства (вот главная улика против Михаила – дневник, о чем Харитон не догадывался). В какой-то момент он задумался над тем, что два его родных брата тоже были большевиками. Правда, Коля вовремя раскусил их сатанинскую сущность и перешел к анархистам (хотя и те не лучше: при царе занимались террором). Сергей так им и остался, и сейчас является частью той своры, которая захватила власть и расправляется с неугодными ей людьми…
Его размышления прервал звонок. Послышались шаркающие шаги Харитона, испуганные голоса прислуги: «Кто это может быть?» Михаил вышел в коридор: «Харитон, подождите, я сам открою». Тот испуганно замахал на него руками и, не в силах произнести ни одного слова, показывал глазами уйти обратно в кабинет. Не слушая его, Михаил обогнал старика и открыл дверь. В коридор ввалилась толпа людей: солдаты с ружьями и одна женщина в длинной шинели и черной каракулевой кубанке с белым верхом.
Женщина сняла шинель и кубанку, пригладила коротко остриженные волосы. Похоже, она была у них главной. «Почему-то у большевиков в начальниках ходят одни женщины, – подумал Михаил. – А, может быть, к нам в гости пожаловала сама Евгения Бош?» Рядом с ней стоял с папкой в руках интеллигентного вида солдат с гладкими, как у ребенка, щеками и в круглых очках – из учителей или студентов.
– Офицер? – спросила женщина глуховатым, прокуренным голосом, внимательно вглядываясь в лицо Михаила…
– По профессии я – адвокат, на фронте был офицером, полковник, – гордо заявил Михаил, не обращая внимания на гримасы Харитона, умоляющего его молчать.
– В Раде состоял?
– В списках Рады его нет, – опередил Михаила интеллигент с папкой, вынимая из нее лист бумаги, – женат на дочери Рекашева Петра Григорьевича. На того есть запись: бывший черносотенец, член «Партии правового порядка» и «Союза русского народа», ярый антисемит. Сейчас состоит в Раде. Сбежал из Киева вместе со своим братом, тоже бывшим черносотенцем и членом Рады. Это из того особняка, где сегодня был Макаров со своими ребятами.
– За изнасилование прислуги Макаров ответит перед революционным трибуналом, а за то, что его ребята выследили эту офицерскую крысу, получит от меня благодарность, – выразила свою милость комиссарша.
Она прошлась по комнате, демонстрируя стройные, красивые ноги, обутые в теплые сапожки с высокой шнуровкой, где-то реквизированные, возможно, в доме Рекашевых. Ее можно было бы назвать привлекательной, если бы не беспокойно бегающие глаза, как обычно бывает у неуравновешенных или того хуже – психически больных людей. Он узнал эти бегающие глаза – дочери чиновника Щербинского, которая когда-то, будучи эсеровкой, совершила террористический акт и, благодаря усилиям Михаила и заключению Сикорского о ее тяжелом психическом состоянии, была освобождена из-под стражи и увезена отцом для лечения в Швейцарию.
Лечение, видимо, пошло ей на пользу. Она выглядела вполне здоровой, только теперь уже была не эсеровкой, а большевичкой, но не все ли равно, под каким партийным знаменем заниматься убийством. Это – забава и тех, и других борцов за справедливость.
Щербинская его тоже узнала, усмехнулась.
– Помню, помню… Вы мне однажды спасли жизнь. Но вам не повезло: мой принцип – никому не делать послаблений, будь это твой сват или брат.
– Барышня, – бросился на выручку Михаилу Харитон, – да как же это можно. Ваше благородие ваших людей от виселицы спасали, а вы ему прослабление не хотите сделать. Он же офицером стал по нужде. Заставили. А попробуй не пойди, так на месте расстреляют. И стреляли. Что там немцы? Русские генералы наших украинских солдатиков до сих пор на фронт силой гонят. Хорошо, батюшка-то наш руку потерял, специально потерял, чтобы только не идти за царя-ирода воевать.
Харитон сам не знал, что говорил. Не выдержав, комиссарша рассмеялась. Михаил тоже невольно улыбнулся. В этот момент из комнаты, как приведение, вся в белом: белой ночной рубашке, белом пуховом платке на плечах, белом чепце с густой сборкой и бледным лицом, появилась Евдокия Христофоровна. В руках она держала икону – так обычно делали киевляне во время еврейских погромов.
– А это еще кто, твоя матушка?
Харитон опередил его.
– Матушка, матушка, – затараторил он, – при смерти лежала, а тут силы нашла, чтобы сыночка своего защитить. Все мы, барышня, кланяемся вам в ноги, чтобы вы смилостивились над вашим благородием, – и он тяжело опустился на колени.
– Встань, встань, старик, – Щербинская дала знак солдатам, и те подняли его. – Теперь у нас нет благородиев. Ты еще можешь быть благородием, солдаты могут, а он… – Она запнулась, не зная, какое подыскать слово, чтобы выразить свою мысль. – Впрочем, мать его мне жаль. Похожа на мою матушку. Бедняга умерла вскоре после моего суда, хоть этот адвокатишка и освободил меня. Ладно, раз народ заступается за него, пусть живет.
– А вы что рты разинули? – набросилась Щербинская на солдат. – Пройдитесь по квартире, проверьте, нет ли здесь оружия и вообще, что тут у него есть.
– А ты ведь, адвокат – буржуй, – сказала она тоном, не предвещающим ничего хорошего, – сколько людей на тебя работает. Это все твои слуги?
– Да, упаси господи, – снова затараторил Харитон, почувствовав перемену в ее настроении. – Все – родные и знакомые, матушку приехали проведать. На смертном одре она находится.
Солдаты разбрелись по комнатам. Раздались выстрелы, которыми они, как у Рекашевых, открывали шкатулки и запертые ящики в столах.
– Ну, ну, не балуйте, у меня, – громко закричала им Щербинская и, кокетливо поведя плечами, обратилась к Михаилу. – Нам лишнего не надо, а то, что возьмем, пойдет на дело Революции. Тебя, адвокат, теперь в покое не оставят. Донесение есть на тебя и твоих родственников. Стрельцов, – приказала она интеллигенту, остававшемуся все это время при ней, – давай сюда чистый бланк. Я тебе охранный документ дам и печать поставлю. Пусть только кто тронет, – пригрозила она кулаком, и бегавшие глаза ее вспыхнули бесовским огнем. – Со мной лично будут иметь дело.
Пришли солдаты с огромными тюками награбленного добра.
– Там много всего, – сказал солдатик, весь какой-то кособокий, со следами оспы на лице и вылезающими вперед, как у кролика, передними зубами. – Надо бы еще раз сюды наведаться.
– Одних шуб и мехов на целый магазин, – добавил другой, облизывая языком толстые мокрые губы и причмокивая ими, – три шубы взяли и еще осталось. Видать, дюже богатые.
– Я ему документ дала за своей подписью, – остановила их Щербинская. – И смотрите у меня: больше сюда – ни ногой. Узнаю, сама всех перестреляю. Ну, старик, прощай, – сказала она Харитону, – повеселил ты меня от души. И ты, адвокат, прощай.
Она пожала Михаилу руку, и, повернувшись на каблуках, так что взвизгнула половица, направилась в прихожую. Вся группа последовала за ней.
После их ухода Харитон упал в кресло и разрыдался. Нянюшка продолжала стоять в дверях с иконой в руках, не имея сил сдвинуться с места. Один только Михаил не мог удержаться от смеха и громко расхохотался. Теперь, когда опасность миновала, все это ему представилось, как хорошо разыгранная комедия в духе Гоголя или Салтыкова-Щедрина.
– Ваше благородие, – спросил дворник Рекашева, – это правда, что они больше не придут?
– Обещала, что не придут. Дала бумагу с печатью. Я ее положу в гостиной на стол. Если опять придут с ружьями без меня, говорите, что сама Щербинская поставила эту печать. Впрочем, кто ее знает, какой она занимает пост? Я вел ее дело в 909-м году. Спас от виселицы. Бывают же такие встречи?! Ну, а теперь давайте пить чай и обязательно выпьем коньячку. Нянюшка, спасибо вам за все. А вы, Харитон? Быть вам после революции адвокатом. Такую речь произнесли. Я ее обязательно запишу и Марии с Катюшкой покажу.
– Господь, наш всемилостивейший. Хоть бы скорей их увидеть, тогда и умереть можно. Ох, и страху я натерпелся, ваше благородие.
– Вот хороший случай из адвокатской практики: когда страх превзошел всякий талант.
– Смеетесь, ваше благородие, над стариком, а я уж думал кончено дело, всех перестреляют.
– Дело считается закрытым, Харитон, когда судья оглашает окончательный приговор, а нашим судьям было не до приговора, они занялись грабежом. Подождите, и над ними свершится законный суд.
ГЛАВА 3
Революция в России нанесла сильнейший удар ее союзникам по Антанте: с прекращением военных действий они потеряли поддержку русской армии, отвлекавшей на себя силы Германии и Австрии. Но России теперь было не до чужих бед. Внутри страны, полуразрушенной четырехлетней войной, голодом и тифом, шла гражданская война, и большевики всеми силами стремились решить вопрос о мире.
Уже несколько месяцев в Брест-Литовске, где находился штаб Восточного фронта германской армии, шли упорные переговоры с Германией, требовавшей уступить ей оккупированную немецкими войсками территорию России. Чтобы спасти советскую власть и избавить народ от новых бедствий, Ленин готов был согласиться на эти условия. Ему нужен был мир и только мир. Но не все в ЦК его поддерживали. Троцкий со своими сторонниками и «левые коммунисты» во главе с Бухариным категорически выступали против любых уступок Вильгельму. Действуя заодно с левыми эсерами, они требовали «революционной войны» с германским блоком, утверждая, что война разбудит революцию в Германии и других странах.
Однако именному Троцкому было поручено возглавить на переговорах советскую делегацию. Имея четкие указания Ленина и Совнаркома немедленно подписать мирный договор на условиях немцев, он сделал все наоборот, объявив немецкой делегации, что Советское правительство прекращает войну и демобилизует армию. Так Лев Давыдович выразил свою собственную позицию: «Ни мира, ни войны. Мир не подписываем, войну прекращаем, а армию демобилизуем». Воспользовавшись этим, немцы тут же начали наступление по всему русско-германскому фронту и, не встречая серьезного сопротивления, за несколько дней оккупировали Латвию, Эстонию, заняли Двинск, Минск, Полоцк, Псков и вплотную приблизились к Петрограду.
Рада тоже прислала свою делегацию в Брест-Литовск во главе с министром транспорта и промышленности Голубовичем, ставшим в конце января премьером правительства вместо Винниченко. Обвинив Советское правительство в том, что оно вело переговоры без ее участия, Рада заявила, что отныне Украина, как «самостоятельная суверенная держава», будет сама устанавливать международные отношения. 27 января был подписан мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, – с одной стороны, и Украинской Центральной Радой, – с другой. Одновременно Рада обратилась к Германии и Австро-Венгрии с официальной просьбой о вооруженной помощи против большевиков. За это Украина должна была до 31 июля 1918 года поставить огромное количество зерна, яиц, мяса, сала, сахара, пеньки, марганцевой руды и пр. Австро-Венгрия обязалась создать в Восточной Галиции автономную Украинскую область.
Немецкие и австро-венгерские войска вступили на территорию Украины и двинулись в глубь страны. Предвидя возмущение общественности, Рада выпустила Обращение к народу. «Отныне, – говорилось в нем, – немцы уже не враги нам, и мы призываем всех граждан Украинской Народной Республики спокойно и доверчиво встречать немецкие войска… Все свободы, установленные III и IV Универсалами, остаются и дальше. Профессиональные союзы, Советы, крестьянские и рабочие, должны и дальше вести свою работу… В это во все немцы не вмешиваются и никаких изменений делать не могут. Они приходят как наши приятели и помощники, чтобы помочь нам в трудную минуту нашей жизни, и не имеют намерения в чем-либо изменять наши законы и порядки, ограничивать самостоятельность и суверенитет нашей республики».
Немцы тоже заверили население, что они идут, «как товарищи, а не как враги украинского народа. Мирные граждане и крестьяне, которые любят порядок, могут быть уверены, что немецкие солдаты помогут им».
Со дня на день этих «товарищей» ожидали в Киеве. Большевики срочно удирали из города, увозя награбленное за эти дни добро. Но первыми в городе появились не немцы, а отряды армии УНР: гайдамаки, сечевые стрельцы и запорожцы во главе с атаманом Гайдамацкого коша Симоном Петлюрой. Торжественным маршем они прошли по Крещатику. Сам Петлюра ехал в шикарном черном автомобиле. На Софийской площади перед колокольней собора их встретил епископ Никодим и отслужил молебен в честь изгнания большевиков…
На следующий день под усиленной охраной немецких отрядов появилась и Рада. Для многих из ее членов возвращение домой оказалось печальным: у кого-то ограбили дом или квартиру, кто-то полностью лишился своей собственности. У Грушевского на Паньковской улице сгорел огромный шестиэтажный дом с ценной библиотекой и этнографической коллекцией украинской древности, которую он собирал в течение всей жизни. Погибли старинные иконы, ковры, первопечатные книги. Кое-кто по этому поводу злорадствовал: мол, Бог покарал его за разрушение дела Богдана Хмельницкого – отделение Украины от России.
К разбитому корыту вернулись и Рекашевы. Оба их дома были полностью разграблены. В особняке Сергея Григорьевича стоял взвод казаков, устроивших на первом этаже конюшню и нужник. В комнатах второго этажа они жили, разводя на полу костры из книг и мебели. Чудо, что не спалили весь особняк. В доме стоял жуткий запах гари и туалета, по комнатам бегали крысы.
Петру Григорьевичу повезло больше: у него жили более приличные люди, но в доме ничего не осталось, на топливо употребили всю мебель и двери, разобрали даже полы. Ангелина Ивановна сидела на чемоданах посредине бывшей гостиной и горько рыдала.
Рада выделила пострадавшим депутатам деньги на временную аренду помещений. Петр Григорьевич снял номер в отеле «Континенталь» на Крещатике, Сергей Григорьевич – квартиру, недалеко от своего дома, чтобы следить за его ремонтом.
С балкона «Континенталя» они все вместе наблюдали, как в Киев вступали основные германские силы во главе с Главнокомандующим оккупационными германскими войсками на Украине генерал-фельдмаршалом Германом фон Эйхгорном. Впереди на черных конях ехали генералы в касках с золочеными шишаками, за ними, под бой барабанов, маршировали солдаты в серо-зеленых мундирах и новеньких фуражках, дальше следовали кавалерия и артиллерия. Замыкали шествие несколько танков, от грохота которых хотелось закрыть уши и бежать отсюда как можно дальше. Перепуганные насмерть вороны и галки с криком носились в небе, глядя сверху на это иноземное нашествие.
Михаила ошеломили порядок и выправка немцев, их сытые, самодовольные лица. Трудно было представить, что русская армия их успешно била два года и добила бы, если бы не революция. Он вспомнил, как в те дни, когда началась война, киевляне устраивали манифестации, громили немецкие лавки и учреждения, как криками «ура» встретили переименование столицы России из Петербурга в Петроград. Все немецкое вызывало тогда у людей злобу и лютую ненависть. Вспомнил он и солдат из своего полка, погибавших на проволочных заграждениях и в бессмысленных атаках. Их потом наспех хоронили в чужой земле, укладывая друг на друга в общие могилы и прикрывая сверху ветвями деревьев.
И вот эти недобитые немцы, довольные, с усмехающимися наглыми лицами победителей шествуют по центральной улице Киева. Стоявшие на тротуарах люди восторженно встречали своих «спасителей», надеясь, что они выгонят с Украины большевиков. Не могли налюбоваться на них и оба Рекашевых, размахивая шляпами и выкрикивая: «Lang Lebe der Wilhelm».
– Такого позора я еще не видел, – возмутился Михаил и ушел в дальнюю комнату, чтобы не слышать крики и бравурные немецкие марши.
К обеду в гости пришел Орест Богданович Полгур, один из бывших помощников генерал-губернатора Сухомлинова в Киеве, а ныне член украинской партии кадетов и большой человек в правительстве Голубовича. Рекашев с ним сблизился в 1915 году, когда Сухомлинова, бывшего до этого военным министром, обвинили в связях с немецкой верхушкой и взяточничестве. Петр Григорьевич с давних пор не любил Сухомлинова за то, что тот отрицательно относился ко всем националистическим организациям и в первую очередь к «Союзу русского народа».
Не без участия таких людей, как Полгур и Рекашевы, военного министра привлекли к суду, устроили на него травлю в прессе. И вот теперь эти же люди сами привели на Украину немцев, готовы с ними целоваться и обниматься, как с самыми близкими и дорогими людьми.
За обедом у Михаила было плохое настроение, он с трудом сдерживал себя, чтобы своим возмущением не огорчать жену и тещу. Но, когда Полгур заявил, что немцы наведут в городе порядок, и можно будет спокойно выходить на улицу, он заявил, что ему стыдно за Раду и всех, кто поддержал ее преступную инициативу отдать Украину в руки оккупантов.
– Рада спасла независимость Украины, – возразил ему Петр Григорьевич, разливая в бокалы немецкий шнапс, неизвестно откуда взявшийся в его доме. – Если бы мы не пригласили сюда немцев, это сделали бы Ленин и Троцкий, отдавшие на растерзание Германии часть своей страны. Только тогда бы немцы нас беспощадно грабили и убивали, а сейчас они действуют в соответствии с взаимным договором.
– Наивные вы люди. Можно подумать, что они сейчас не будут нас грабить и убивать. Вы видели их лица? Они чувствуют себя хозяевами, а нас считают рабами, достойными презрения.
– Я поражаюсь вам, Михаил Ильич, – сказал Рекашев. Спорили они вдвоем, все остальные молчали. – Вы собственными глазами убедились, что собой представляют большевики. До сих пор невозможно открыть форточку, такой запах идет отовсюду.
– А кто позволил им сюда прийти? Украинские войска и ваши знаменитые казаки вместе с Казачьей Радой. Бросили город на произвол судьбы, показав самую настоящую трусость, да и сама Рада хороша…
– Зря вы нас ругаете, – вступил в разговор Орест Богданович. – В Европе уже в открытую говорят о том, что рано или поздно странам Антанты придется вмешаться в дела России, если они не хотят и у себя получить большевистскую заразу. Многие русские деятели тоже предпочли бы видеть у себя немцев, чтобы избавиться от большевиков и их Советов.
– Это такие же предатели, как Рада. Я не люблю Шульгина и его газету «Киевлянин», но приветствую его поступок закрыть газету в знак протеста против прихода сюда немцев. Поступил как порядочный человек и гражданин.
– Нашли, кого ставить в пример. Самая отвратительная личность в нашем городе, какую я знаю. Уехал отсюда и, слава богу, не будет больше мутить воду против Рады.
– Петя, – вмешалась Ангелина Ивановна, – мы устали от ваших полемик.
Вспомнив, что дал обещание жене не заводить споров с зятем, Петр Григорьевич переменил тему разговора.
– Михаил Ильич. Мы сейчас начинаем создавать новую судебно-законодательную систему. Маша до нашего отъезда в Житомир говорила, что вы собирались работать в Министерстве юстиции.
– Уже нет. Меня пригласили на преподавательскую работу в университет. Я защитил магистерскую диссертацию и принят туда на кафедру юридического права читать лекции. Это меня вполне устраивает.
– В министерстве вы будете получать намного больше. Подумайте о Маше и Катеньке.
– Я только о них и думаю.
Несмотря на старания Ангелины Ивановны и Марии сблизить своих мужчин, отношения между ними с каждым таким спором все больше ухудшались. Если раньше, до войны, Михаил не мог примириться с деятельностью тестя в «Союзе русского народа» и его антисемитскими взглядами, то теперь такое же раздражение у него вызывал его фанатизм в украинском сепаратизме и ненависти к России. Нельзя уважать человека, который, как хамелеон, подстраивается под тех, кто занимает в данный момент высокий пост и может ему пригодиться. Когда правительство возглавлял Винниченко, он был с ним в близких отношениях. Стоило тому сдать позиции, как Петр Григорьевич о нем забыл, и теперь «заигрывает» с Голубовичем. Также постепенно он отошел от Порша, затем от Кондратовича. В его окружении теперь появились новые люди, изредка посещавшие обеды в их номере отеля. При этом он убеждал родных, что все делает в интересах Украины.
Между тем все, что Михаил предсказывал в отношении Рады, со временем сбывалось. Все уже видели, что она фактически не имеет ни власти, ни сторонников. В стране царит хаос. Отдельные области, уезды, города и даже села находятся в руках атаманов вооруженных банд, занимающихся грабежом и насилием, повсюду идут еврейские погромы. Из-за попустительства властей, не желающих принимать меры для их пресечения, они превратились в геноцид еврейского народа. В самом Киеве расцвел такой бандитизм, что во многих районах жители боялись выходить из дома не только по вечерам, но и днем.
Видели это и немцы. Они сами стали наводить на Украине и в Киеве порядок, наладив в первую очередь работу железной дороги, по которой в Германию и Австрию-Венгрию непрерывным потоком шли поезда с продовольствием и сырьем.
Пока у крестьян были полные амбары, оккупанты не обращали особого внимания на деревню, сполна получая для себя и муку, и мясо, и яйца. Но когда запасы оскудели, а весной оказалось, что значительная часть земель не засеяна, начальство забило тревогу.
Эйхгорн издал приказ об обязательном и принудительном засеве полей (и крестьянских, и помещичьих) силами крестьян. Помещикам вернули права на землю, крестьян превратили в сельскохозяйственных рабочих, получавших за свой труд лишь треть собранного урожая. Повсюду начались массовые протесты и расправа с помещиками и управляющими. В ответ немцы применяли карательные меры, еще больше озлоблявшие крестьян.
Убедившись, что Рада не способна контролировать ситуацию и обеспечивать свои «продовольственные» обязательства, немцы стали думать о том, чтобы сменить в стране власть, но так, чтобы это сделали сами украинцы, без их вмешательства. Им не хотелось зря проливать свою кровь.
ГЛАВА 4
Предложение о работе в университете, о котором Михаил говорил Рекашеву, исходило от его бывшего друга и коллеги Евгения Елизарова, попросившего его в 1909 году стать защитником у трех женщин из «Боевого интернационального отряда анархистов-коммунистов» Борисова. Вернувшись с фронта с тяжелым ранением в ногу и ампутированной кистью правой руки, Евгений защитил магистерскую диссертацию и, получив звание приват-доцента, преподавал в Университете Святого Владимира. Он давно предлагал Михаилу последовать его примеру, и тот, в конце концов, начал работать над диссертацией о профессиональных этических правилах адвоката и его дисциплинарной ответственности. Это не составило для него особого труда, вскоре он защитил ее в университете (его там помнили и, как оказалось, студенты изучали его статьи в журналах и речи на заседаниях судов предвоенного времени), получил тоже звание и должность профессора. Новое занятие и преподавательское окружение вполне его устраивали.
Сам Елизаров еще до прихода большевиков сошелся с офицерами-украинцами, озабоченными судьбой Украины. Михаил несколько раз бывал у него дома на тайных собраниях. Это были большей частью люди из аристократической среды: дворяне и землевладельцы, к которым Евгений тоже принадлежал. Они критиковали правительство Рады, называвшее себя социалистическим за принятые законы в интересах рабочих и крестьян. Особенно их возмущал IV Универсал, упразднивший право частной собственности на землю и признавший ее собственностью всего народа без выкупа. Заговорщики мечтали сменить весь состав Рады и ее правительство, вернуть право собственности, но дальше разговоров дело не шло.
Во время большевистского нашествия многие из них не успели или не захотели покинуть город и поплатились жизнью. Те же, кто сбежал и вернулся обратно, лелеяли все ту же мысль: сбросить Раду и установить новую, удобную для них власть. Теперь они делали ставку на Павла Скоропадского, бывшего генерал-лейтенанта Русской императорской армии, флигель-адъютанта Николая II, крупного, богатого помещика, атамана Вольного казачества, единогласно избранного на первом съезде казаков в Чигорине в октябре 17-го года, а вместе с ним установить новое государство – гетманство, которое вернет страну к прежнему, монархическому строю.
Скоропадский сам был душой заговора, опираясь как крупный землевладелец, не только на офицеров, но и на Союз землевладельцев Украины (помещиков) и Украинскую демократическую земледельческую партию. Все вместе они составляли «Тайное украинское народное общество».
Принимая горячее участие в судьбе Михаила, Елизаров опять приглашал его к себе на тайные заседания. Узнав о планах заговорщиков, Михаил отказался участвовать в их собраниях и старался как можно реже общаться с Евгением. Он не был сторонником Рады, но категорически был против гетманства и вообще каких-либо новых потрясений на Украине, которые приведут страну к очередному кровопролитию.
Знала ли о готовящемся перевороте Рада? Михаил несколько раз спрашивал об этом Петра Григорьевича. Тот только усмехался, говоря, что у Рады всегда было много врагов: кто только не мечтает о том, чтобы поставить на ее место других правителей. Однако у них есть своя агентура, и им известно обо всех подпольных организациях. Скоропадский же, которого кто-то прочит на должность гетмана, далеко не та фигура, которая может решить проблемы Украины.
– Почему же? – возразил ему Михаил, но не для того, чтобы заступиться за гетмана, а ради справедливости. – Скоропадский занимал в русской армии высокие должности. Командование его ценило. И здесь он много сделал для создания украинских частей, защищал с ними от большевиков Раду и Украину.
– Зачем вы мне все это говорите? – разозлился Петр Григорьевич. – Я вас уверяю, что немцев Скоропадский не интересует. Там больше суетятся французы. Плохо то, что есть люди, которые вместо того, чтобы активно работать и помогать Раде, настраивают немцев и Антанту против нас. Хуже нет, когда свои же украинцы за твоей спиной строят козни. Но ничего. На днях мы примем Конституцию Украины, ряд важных законов. Кстати, вы заметили: Скоропадский съехал из «Континенталя», наверное, заметил, что наша агентура за ним следит, живет теперь где-то на частной квартире.
В конце марта Ангелина Ивановна неожиданно слегла. Она простудилась еще в Житомире и до сих пор сильно кашляла. Врачи опасались, что ее заболевание может перейти в чахотку.
Мария и Катя навещали ее каждый день. Как-то Михаил после университета зашел за ними в отель. Очередной приглашенный (пятый по счету) врач только что вышел из номера, прописав новые лекарства. Михаил предложил сходить в аптеку, Петр Григорьевич сказал, что пойдет их провожать и сам все купит.
– Я бы разрешил и Ангелине Ивановне прогуляться, – сказал Михаил. – Володя всегда советовал так делать моим братьям, болеющим легкими. Сейчас на улице тепло, светит солнце.
– Нет, нет, – испуганно замахал руками Рекашев. – Не дай бог, ветер подует, снова поднимется температура. Вот, если бы ваш знаменитый доктор здесь курировал Ангелину Ивановну, тогда другое дело.
– К сожалению, он не отвечает на мои письма. Мы отрезаны от остального мира.
– Хорошо бы маме в Крым, – мечтательно произнесла Мария.…
– Прекрасная идея, только не в Крым, а снять дачу где-нибудь под Киевом, как в старые добрые времена, когда Катюша была маленькой, – подхватил ее мысль Петр Григорьевич.
– Помните, как Катюша боялась купаться в Днепре, и мы ее силой затаскивали в воду? Было такое замечательное время. Кому понадобилось все это разрушить?
– Все это скоро кончится. Завтра мы примем свою Конституцию, в истории Украины откроется новая страница, – сказал тесть, радостно потирая руки.
Михаил не стал его больше слушать, взял рецепты и отправился в аптеку.
Шел седьмой час вечера, жизнь в Киеве била ключом. Везде работали кафе и рестораны, откуда неслись музыка Вагнера и вальсы Штрауса. Через широкие чистые окна можно было видеть немецких офицеров с роскошными, ухоженными женщинами. Они пили вино и ели деликатесы, которые доставали где-то спекулянты. Все самое лучшее и дорогое было для этих завоевателей. Афиши извещали о приезде венской оперетты и известной берлинской певицы Сарры Штайнер, в которую, как говорят, был влюблен Эйхгорн, специально выписавший ее из Берлина.
В поисках нужных лекарств он обошел несколько аптек на Крещатике и, возвращаясь обратно в отель, как назло, встретил Елизарова. Тот приветливо протянул ему руку.
– Ну, что, Миша, все избегаешь меня, только не пойму почему. Мы все желаем добра нашей родине. Должен тебя предупредить как старого товарища, что Раде скоро настанет конец, мы провозгласим нового правителя.
– Какого-нибудь немца?
– Причем тут немец? Я же тебе говорил: гетмана Скоропадского.
– Не все ли равно. Кого бы вы ни поставили с подачи немцев, он будет плясать под их дудочку.
– Напрасно ты так. Скоропадский – боевой генерал, привык действовать самостоятельно. Он, кстати, о тебе хорошего мнения, готов взять тебя в новое правительство или в любую военную и юридическую структуру. Деньги у него есть, высокая зарплата обеспечена.
– А тебе он что предложил?
– Я сам вызвался работать в Министерстве юстиции, – охотно сообщил Елизаров, не обращая внимания на сарказм Михаила. – Хочешь, будем работать вместе?
– Спасибо. Меня устраивает преподавательская должность… Ты…, ты так уверенно обо всем говоришь, как будто Скоропадский уже сидит на своем троне.
– Поживем, увидим, – загадочно улыбнулся Евгений.
Михаил рассказал об этом разговоре жене и забыл о нем. Все они были заняты здоровьем Ангелины Ивановны, которое с каждым днем ухудшалось. Мария и Катя теперь жили в отеле; по просьбе жены Михаил тоже иногда там ночевал. Надежда была на лето, сухую погоду и возможность больной больше находиться на свежем воздухе.
ГЛАВА 5
Узнав о преступном сговоре Рады с Германией и вступлении немецко-австрийских войск на территорию Украины, Николай Даниленко решил забрать семью в Харьков. Но, пока он добирался до Ромен по забитой беженцами и военными составами железной дороге, немецкие войска заняли город.
Все там уже было чужое. На привокзальной площади висел огромный щит со словами «Deutsch Faterland». Немецкий патруль из шести человек в своих огромных касках и с винтовками через плечо подозрительно осматривал с ног до головы каждого приезжего.
– Хозяева, – услышал Николай шепот в толпе, – били их, били на фронте, да видно мало. Теперь сюда приперлись.
– Говорят, их сам Голубович позвал.
– И этого расстрелять вместе с ними. Теперь маршируй под их команду: эйн, цвей, дрей…
Из здания Почты, размахивая на ходу руками и что-то крича, бежал Аникий Дмитриевич Дорошенко. Николай пошел ему навстречу.
– Николай, – выпалил Митрич, с трудом переводя дыхание и оглядываясь по сторонам, – домой тебе нельзя. Костюк и Щербина около вашего дома выставили караульных. На Почте сейчас полно людей. Зайди с другой стороны, посиди в подсобке. Через час у меня обед, все уйдут, и я приду к тебе.
Николай прошел в подсобку, но сидеть в духоте и одиночестве было невыносимо. Время от времени он выходил в коридор и заглядывал в операционный зал, набитый немцами. Они отправляли к себе на родину продуктовые посылки. Запах сала и копченой колбасы висел в воздухе, как в мясной лавке.
Давно наступило время перерыва, но немцы не хотели о нем слышать. Только к вечеру стих этот бесконечный поток. Еле живой Митрич сидел за столом и обмахивался газетой.
– И так каждый день, – пожаловался он Николаю. – Несут и несут полные ящики. Каждый старается урвать свой «кусок хлеба с маслом».
– Аникий Дмитриевич, давайте ближе к делу. Что Костюку и Щербине от меня нужно?
– По просьбе немцев они составили список лиц, неугодных новому режиму. Агриппина слышала, как Степка хвастался Ганне, что этот список открывают братья Даниленко: вы с Сергеем – как большевики, Миша, Володя и Илья – как офицеры царской армии. Володя в России, на остальных отправили сведения по месту проживания. А тебя караулят около дома целый день. Тюрьма забита, с иными расправляются прямо на улице. Столько людей погубили…
– Не пойму, чем мы Костюку и Щербине не угодили. Ну, ладно я, Ганка на меня зуб имеет, а братья причем? Большевики били офицеров, и эти теперь туда же. Костюк сам был царским офицером, да еще комиссаром Общественного комитета. Его первого должны вздернуть на виселице.
– О-о! Он не так прост: при каждом новом хозяине умеет выслужиться. Теперь он у нас вроде коменданта города, а Медный и Щербина – его заместители. Они из-за этого чуть горло друг другу не перегрызли. Щербина по прежней должности командует державной вартой. Лютуют, как звери. Здесь еще не так, а вот в селах… Нашли даже тех, кто якобы поджег дома Сабуровых и Деминых: те, конечно, оказались евреями, из-за этого устроили в городе погром. Ясиновский пришел к Щербине жаловаться на вартовых, что те безобразничают у него в корчме, денег не платят. Так тот приказал его избить и вздернуть на виселице перед корчмой. Хороший был еврей, всех жалел, прощал долги… Так что, Миколушка, пока тебя здесь никто не видел и не донес, кому следует, поезжай обратно. Скоро будет поезд на Полтаву, а там как-нибудь доберешься до России. На Украине сейчас делать нечего. Это Елена Ивановна и Лиза так рассудили и просили тебе передать.
– Нет, Аникий Дмитриевич. Раз я сюда приехал, то должен побывать дома. Меня никто не видел. Я у вас еще посижу, а в часов десять проберусь к задней калитке сада. Она заколочена досками. Вы как-нибудь незаметно сообщите Марфе, чтобы она вытащила из них гвозди.
– Ох, и попадет мне от Елены Ивановны за такую самодеятельность. Но раз надумал идти, иди. Оставь здесь все вещи и документы, да пальто сними, возьми мой запасной кожух, в нем не так будешь привлекать внимание.
Ночью Николай подошел к березовой роще с другой стороны их сада, куда выходила задняя калитка. В роще расположились какие-то люди, на дороге стоял их караул, в темноте ржали лошади. Дорошенко почему-то об этих людях его не предупредил: или не знал, или забыл. Что делать? Он походил вокруг, надеясь, что караульные уйдут спать, но тех сменили другие. Наконец, решив, будь что будет, он подошел к молодому парню с краю рощи и попросился на ночлег. Тот осветил спичками его лицо, пошарил по карманам дедова полушубка, провел рукой по брюкам, пощупал ткань пиджака.
– Странная ты личность, – задался он вопросом, – кожух на тебе старый, брюки и пиджак, видать, из-за границы, и ботинки не наши. Да меня это мало интересует. Ботинки и весь твой костюм я изымаю в пользу общества, шляпа и шарф тоже пригодятся. Давай, сымай все, – приказал он суровым голосом и стал с какой-то детской радостью срывать с себя рваную и давно не стираную одежду, чтобы отдать ее Николаю, а взамен надеть его.
– Теперь порядок, – улыбнулся он, оглядывая себя со всех сторон и похлопывая по карманам чужого пиджака, не осталось ли и там чего-нибудь полезного. Хорошо, что Николай оставил у Митрича вместе с чемоданом документы и все бывшие при нем ценные вещи.
Николай вынужден был натянуть на себя его грязное тряпье.
– Вот теперь ты выглядишь по-нашему. Бери свой кожух и идем к костру.
У костра вповалку спали люди. Один только бородатый мужик, видимо, костровой, сидя дремал, машинально ворочая палкой потухшие угли. Из открытого рта его тонкой струей стекала слюна.
– Садись тут, – приказал караульный, потрогав рукой чайник на перекладине и подбрасывая в костер дрова. – Еще горячий. Посиди тут немного за кострового, а потом разбуди Лешего. Э, черт, всегда так. Пять минут посидит и начисто отключается, костер за него дядя будет поддерживать.
Дрова быстро разгорелись, сильное пламя устремилось вверх, к большой ветке березы, почерневшей от огня.
– Смотри, парень, – обеспокоился Николай, – дерево загорится, рощу сожжете.
– В такой холод? Нет, дело давно проверено. Нам неприятности с местной властью не нужны. Так куда же ты все-таки идешь?
– Вчера приехал из Полтавы, иду домой в Житное, есть тут недалеко такое село, да задержался у старой знакомой.
– Остался бы ночевать.
– Батя ее неожиданно с хутора приехал. Шум бы поднял. А в соседнем доме немцы стоят. Сам понимаешь, чем бы это кончилось.
– Учитель что ли? Больно складно говоришь.
– Учитель, учитель, – обрадовался Николай. – Преподаю детям математику. А вы откуда пришли?
– Если быть точными, мы из посада Яновец Радомской губернии. В 14-м нас оттуда выгнали по приказу Генерального штаба, так и бродим по белому свету, да народу мало осталось. Теперь хотим тут где-нибудь осесть, землю взять в аренду, пусть часть урожая немцы отымут, но что-то и нам останется. Только бы не подыхать с голоду… Все у нас болеют… Ну, ложись, спи, а я Лешего сам разбужу.
Он дернул кострового за бороду, тот вскочил, растерянно оглядываясь по сторонам и не узнавая своего земляка в новой одежде. Тот показал ему рукой на Николая и что-то зашептал на ухо, наверное, давал указание присматривать за ним. Вот уж совсем некстати. Он улегся на спину, но так, чтобы держать кострового в поле зрения. Караульный ушел обратно на дорогу. Леший принес новые дрова, подбросил их в костер, выпил остатки чая и снова задремал, опустив голову на грудь.
Выждав время, Николай встал и, оглядываясь по сторонам, подошел к соседней березе как будто по нужде. Постояв там немного, перешел к другому дереву, второму, третьему и, наконец, убедившись, что за ним никто не следит, вышел к своему забору, но в темноте не мог найти заросшую калитку. Тут послышался шепот Марфы.
– Коля, это ты?
– Я, Марфа.
– А я слышу, кто-то тут ходит и ходит. Иди сюда.
Вросшая в землю калитка еле открылась, и то пришлось ее сильно подкапать. Николай снял кожух и с трудом пролез через узкое отверстие. Марфа подала ему шурупы и отвертку.
– Ввинти, чтобы не стучать, а я землю притопчу, да маклюру поближе к земле пригну, мало ли кому вздумается сюда прийти. А что это за тряпье на тебе?
– В роще какие-то люди лагерем стоят, позарились на мою одежду.
– Беженцы, только вчера появились. Костюк приказал им убраться. И то дело, нам это соседство ни к чему. Степка и немцев два раза приводил. Первым не понравилось, что дом стоит на окраине. Я потом ему говорю: «Что ты, сукин сын, делаешь, здесь дите малое, а ты немцев на постой приводишь?», а он нагло улыбается: «Чем вы лучше других, они у всех стоят». А у самого никого нет, и даже в дом не водил. Через три дня привел группу солдат за продуктами. Те сразу к леднику бросились. Думали, найдут мясо и сало, а там остались одни бочки с соленьями. В доме и летней кухне были кое-какие запасы муки и круп. Все забрали, остальное, ты знаешь, закопано в саду, сало прячем за будкой Пушка.
– Что же теперь делать? И уехать нельзя. Кроме немцев, банды кругом орудуют.
– Чего удумал? Куда же с малыми детьми ехать? Даже не заикайся. Елена Ивановна с девочками духом воспрянула, ожила, как при Ильюше. Иди в кухню, там натоплено и вода горячая, а я за чистой одеждой схожу.
В доме никто не спал, кроме Оли, ждали его. Как только он вошел в столовую, все сразу повисли на нем, обхватили за плечи и шею, смеялись, плакали, говорили. Он не знал, кого целовать в первую очередь. Верочку посадил на колени; одной рукой обнял маму, другой притянул к себе Лизу и Олесю, целуя всех по очереди.
Окна были плотно закрыты ставнями, керосиновая лампа еле теплилась. Все были так напуганы, что говорили шепотом.
– Неужели Степан и ночью может прийти? – спросил Николай.
– Он теперь все может, окончательно потерял совесть.
В этот момент в спальне заплакала Оля. Лиза встала, чтобы пойти к дочери.
– Подожди, я с тобой, – сказал Николай, и пошел за женой. Пока Лиза зажигала керосиновую лампу и готовилась к кормлению, он вынул девочку из кроватки и прижал ее к себе, осторожно целуя в обе щечки. Ей шел четвертый месяц. Маленький человечек с осмысленным, серьезным взглядом.
Лиза с улыбкой отобрала у него ребенка, перепеленала и стала кормить. Николай любовался этим вечным сюжетом кормящей матери с прильнувшей к ее груди головкой младенца. Жена была в этот момент очень хороша. Не выдержав, он поцеловал малышку в голову, а Лизу в открытую пухлую грудь. На щеках ее выступил румянец.
– Ты, наверное, голодный? – спросила она, улыбаясь.
– Голодный во всех отношениях, – пошутил он, и, запрокинув ее голову, поцеловал в губы таким долгим поцелуем, что у нее закружилась голова. Она еще больше покраснела.
– Что это ты так покраснела?
– Здесь просто жарко, натопили к твоему приходу, – смутилась Лиза, прижимая свободной рукой его голову и не отпуская ее. – Коля, когда же мы начнем нормальную жизнь? Я так по тебе скучаю.
– И я скучаю. Брожу в Харькове по квартире и представляю, как нам вместе было бы хорошо и как мы с тобой обустроим комнаты: тут поставим шкаф для одежды, там книжный шкаф, детские кровати, уголок для игрушек, ну это, конечно, когда деньги будут…
– А что же ты не говоришь про кухню?
– Кухня на твое усмотренье. Купим буфет и круглый стол. Впрочем, у наших соседей Баронов до сих пор в кухне стоит один стол, сколоченный из досок, и две табуретки. Они презирают уют.
– Фанни – красивая?
– Нормальная, – улыбнулся Николай, уловив в ее вопросе женскую ревность, – и очень мужественная. С таким беспокойным мужем, как Арон, жить не просто…
– Как мне хочется их всех увидеть. Когда все это кончится? Рада, большевики, теперь немцы, хозяйничают, как у себя дома.
– Помню, в Женеве мы спорили с Георгием Гогелией об интернационализме рабочих. Он утверждал, что ничего страшного не будет, если немцы придут в Россию, мол, принесут нашему отсталому народу цивилизацию, поднимут промышленность и сельское хозяйство. И Гюстав Эрве об этом же говорил до начала войны, имея в виду Францию. В этом им очень хотелось видеть международную солидарность рабочих. Вот он, пожалуйста, их интернационализм: пришли сюда освободить нас от большевиков, а действуют, как бандиты.
– Говорят, большевики весь Киев разграбили, устроили там охоту на офицеров и евреев. Надеюсь, у Миши хватило ума избавиться от формы и всех своих регалий. – Лиза вдруг заволновалась. – Подожди, Коля. Что же мы тут с тобой разболтались? Тебе самому надо срочно уходить. Степан может нагрянуть в любую минуту.
– Не волнуйся, – сказал Николай, осторожно забирая у нее из рук дочку, чтобы после кормления подержать ее в вертикальном положении и прижаться щекой к пахнущему молочком тельцу, но девочка уже заснула, и он с сожалением положил ее в кровать. – Я всегда могу уйти через заднюю калитку в саду. У меня там есть новый знакомый. Мы с ним обменялись одеждой. Жаль, ты не видела меня в его штиблетах.
– Так тебя кто-то видел?
– Только этот мужик. В темноте он вряд ли меня рассмотрел.
Позвали ужинать. Николай вышел к столу один, Лиза осталась привести себя в порядок после кормления.
Марфа успела сходить на двор за салом, вытащила из печки картошку, поставила на стол тарелки с соленьями, его любимую наливку из вишни. Мама пить не стала. Они выпили вдвоем с Марфой и повторили еще несколько раз. Женщины все подкладывали ему то картошку, то розовые куски сала, то огурцы и кислую капусту – все, что было в доме.
– Коля, – спросила Елена Ивановна. – Ты из Екатеринослава ничего не получал?
– Получал, – уверенно сказал Николай, чтобы ее успокоить. – У Ильи и Вани все в порядке. Университет, правда, не работает, но они сами занимаются по учебникам и где-то подрабатывают.
– А Сережа и Даша с детьми?
– У них тоже все хорошо. Сережа прислал фотографии Светланы (четвертой дочери). Богатырь по сравнению с нашей Оленькой.
Николай настолько увлекся своей фантазией, что Елена Ивановна посмотрела на него с подозрением и недоверчиво покачала головой.
– Ах, сынок, сынок, что же в мире творится. Вот тебе и революция, ударила всех обухом по голове. Тебе тут тоже нельзя оставаться. Пока поезда ходят, уезжай в Москву. Костюк хуже немцев. И то спасибо, что Лизу с детьми не трогает. В городе и селах все время идут погромы.
– Как же я могу уехать, если вам угрожает опасность?
– Хуже будет, если тебя арестуют или убьют. Степан стал невменяемый. Глаза безумные, пустые, смотрят мимо тебя, как будто его чем-то накачали.
– Много пьет или употребляет кокаин.
– Господь с тобой, откуда здесь кокаин?
– От немцев, они им балуются…
Вошла Лиза в накинутом на плечи белом пуховом платке – не столько для тепла, сколько для красоты, знала, что он ей очень идет, села рядом с мужем, прижалась к его плечу. На щеках ее горел румянец. Елена Ивановна не смогла сдержать улыбки: такой у нее был счастливый вид, и – красавица, просто загляденье.
Женщины упрямо твердили, что Николаю надо уехать если не прямо сейчас, то рано утром, до рассвета.
– Что вы поднимаете панику, – улыбался Николай, глядя на их озабоченные лица, такие родные и любимые, – никто не знает, что я тут. Побуду завтра весь день, ночью уйду.
– Ох, Колюшка, – покачала головой мама, – плохо ты представляешь, что тут теперь в Ромнах творится. Оставайся, только из дома – ни ногой, и к окнам не подходи.
– Вы потом, когда я уеду, у Митрича мой чемодан и вещи заберите. Да, и мои документы у него остались, – спохватился он, – их-то как взять?
– Завтра решим, давайте спать, а то поздно уже.
Все разошлись по комнатам, одна Марфа то и дело выходила на крыльцо, прислушиваясь к звукам в саду и на улице: везде было тихо.
Ночь прошла спокойно. Днем, как обычно, занимались текущими делами. Марфа с Олесей распиливали доски, оставшиеся от сарая, складывали их в поленницу около летней кухни. Мама затеяла там же стирку. Время от времени она выходила с тазом во двор и развешивала белье на веревках. Рядом с ней вертелась Вера, подавая ей из таза мелкие вещи.
Лиза вывезла коляску с Олечкой и долго сидела с ней на скамейке, зная, что караульные могут подсматривать через щели в заборе. Она так и чувствовала на себе их похотливые взгляды, блуждающие по ее лицу и телу.
В четыре часа пообедали и оставались за столом, ожидая, когда поспеет самовар. Но еще раньше в березовой роще послышались крики и ружейные выстрелы. Марфа вышла на улицу узнать у караульных, что случилось. Оказалось, вартовые выгоняли из рощи беженцев.
Не успела Марфа войти в дом и доложить домочадцам новость, как раздался сильный стук в ворота, и тут же залился хриплым, срывающимся лаем Пушок.
Все засуетились. Еще раньше было решено, что в случае опасности, Николай спрячется в «летнем» подполе столовой. Обычно в хатах было по одному подполу, в кухне. Илья Кузьмич специально сделал в столовой еще один подпол, чтобы хранить там запасы овощей, которые начинали использовать ближе к лету (почему его и называли между собой – «летний»). На этом месте всегда стоял обеденный стол.
Женщины быстро сдвинули в сторону стол и стулья.
– Никуда я не полезу, – заупрямился Николай. – Пусть Степан объяснит, что ему от меня надо.
– Коля, – взмолилась Лиза, – с ним бесполезно разговаривать. Ему ничего не стоит со всеми нами расправиться. Он на площади стрелял в детей и женщин.
– Сынок, ради бога, спрячься, – зашептала побелевшими губами Елена Ивановна: она была близка к обмороку. – Он же нас всех со свету сживет.
– Я бы все-таки поговорил с ним по-мужски, – сказал Николай и, вынужденный покориться женщинам, полез в погреб.
– Только, пожалуйста, молчи, чтобы они тут ни говорили. Мы сами справимся, – сказала Лиза, закрывая крышку и пододвигая к ней стол.
– Может быть, нам с Верой наверх подняться? – спросила Олеся, прижимая к себе расплакавшуюся девочку.
– Нет, оставайтесь тут. – Лиза делала все быстро и решительно: расставила вокруг стулья, вынула из горки посуду для чая. – Вера, перестань плакать и смотри: не проговорись о папе, если тебя будут спрашивать. Его тут давно не было.
Расселись вокруг стола. Марфа поставила на него самовар, быстро наполнили чайник для заварки и чашки. Лиза придирчиво всех осмотрела и дала Марфе знак, что можно идти к воротам.
– Кого это нечистая принесла? – закричала Марфа, спуская с привязи Пушка, с лаем ринувшегося к воротам.
– Давай, мать, быстрей поворачивайся и убери собаку, а то пристрелю ко всем чертям, – закричал с той стороны Костюк и выстрелил в забор.
– Чертова кабелина, что же ты стреляешь, тут дети малые.
– А поворачивайтесь быстрей, когда власть приходит.
Во двор ввалились Костюк, Щербина и четверо вартовых. С ними был избитый в кровь мужик, босой, без брюк, в одних кальсонах и рубахе: он еле держался на ногах, вытирая рукавом слезы и кровь на заплывшем от побоев лице. Степан держал в руках ботинки, черные брюки и пиджак, в которых Марфа узнала вещи Николая.
– Узнаешь? – спросил Степан, ткнув ей в лицо ботинки, – обувь Николая.
– В жизни у него таких не видела, а что случилось?
– Этот беженец утверждает, что ночью к нему подошел человек, по всем описаниям похожий на Николая, он с ним обменялся одеждой. Ботинки импортные, на подметках клеймо на иностранном языке и одежда с иностранными бирками. Такие могут быть только у Николая.
– Чем удивил? На базаре сейчас полно заграничного барахла. Ваши караульные тут простояли всю ночь, никто через ворота не проходил, забор вы уже несколько раз проверяли. Кто же через маклюру продерется?
– Значит, в заборе есть другая калитка, эти олухи проглядели.
– Мы только что обошли весь забор по периметру, – оправдывался один из вартовых, – нет там больше калиток, кроме той, что забита досками. И маклюра кругом. Там и собака не пролезет.
– Гришке бы за эту маклюру голову оторвать, надумал, что сажать. Ну, что стоите? – накинулся Степан на парней. – Еще раз обойдите весь сад, да постреляйте по углам и маклюре. Не мог же он сквозь землю провалиться? Про летнюю кухню и ледник не забудьте. И ты, Щербина, иди с ними, – приказал он начальнику варты, молча слушавшему все эти распоряжения.
На крыльцо вышла Елена Ивановна, надеясь по-хорошему поговорить со Степаном, бегавшим к ним в детстве за пирогами и сладостями, но столкнулась с очередным хамством.
– Здравіє бажаємо, наше вам пошану, – с издевкой произнес Степан (и когда только научился говорить по-украински), презрительно сплюнув в сторону. – Вот человек утверждает, что ночью разговаривал с вашим сыном и поменялся с ним одеждой. Ботинки, весь костюм и рубашка – его.
– Здесь он не был.
– Ох, вже ці благородні, прикидаються овечками, а самі собі на умі. А вы двое, – приказал он оставшимся гайдамакам, – обыщите весь дом, без одежды этого оборванца не возвращайтесь, а его самого отпустите. И чтоб я твоего табора тут больше не видел, – крикнул он вслед мужику, согнувшемуся от страха и боли в три погибели.
Елена Ивановна первой вошла в прихожую, приказав мужикам вытереть ноги. Те старательно терли о тряпку испачканные в земле сапоги, не решаясь двигаться дальше.
– Чего топчитесь? – закричал на них Костюк, проходя в грязных сапогах в коридор, устланный чистыми дорожками. – Поднимитесь на второй этаж и чердак, а я здесь пройдусь по комнатам.
Марфа повсюду его сопровождала. Он осмотрел комнату Елены Ивановны и гостиную, где теперь жила семья Николая. Залез под кровати и матрасы, ощупал во всех шкафах вещи и постельное белье, слава богу, не выбрасывая ничего на пол, заглянул на кухне в подпол и печку и направился в столовую.
– Т-а-а-к, – протянул он с наглой усмешкой, увидев в сборе всю семью, поманил к себе Веру и вынул из кармана плитку шоколада. – А, ну, малая, иди сюда, Ты – хорошая девочка, скажи дяде честно, кто сюда ночью приходил, получишь шоколадку.
– Оставь ребенка, – Марфа забрала у него Веру. – Ишь, разошелся. Забыл, как мы тебя в детстве от пьяного отца спасали?
– Ты, тетка, брось здесь свои порядки устанавливать. За сокрытие преступника имею право вас всех в тюрьму посадить или расстрелять на месте.
– Какой же Николай преступник? – всплеснула руками Елена Ивановна. – Новая власть его полностью амнистировала,
– Теперь у нас другая власть; все бывшие преступники – ее преступники, так как снова народ мутят. А еще лучше вы обе идите отсюда, – он бесцеремонно выставил за дверь Елену Ивановну и Марфу. Олеся со страху прижалась к Лизе. Лиза же больше всего боялась, что Николай, услышав, как над ними издеваются, не выдержит и потребует выпустить его наверх, навредив себе и родным. Она поднялась со стула, глаза ее горели.
– Что же ты, Степан, так поступаешь со старыми женщинами? Мы же – соседи, должны помогать друг другу, а ты караул расставил, обыски устраиваешь, девочек моих напугал. Если тебе муж мой нужен, он сам к тебе придет, когда тут появится. Сам подумай: неужели он способен прятаться за спинами женщин?
– Пой, пташка, пой. Придет и твой черед. А теперь черт с вами, – спрятав в карман плитку шоколада, он направился к картине Верещагина «Эльбрус», висевшей над диваном. – На сей раз разойдемся полюбовно: дадите мне эту картину и вон те две, – указал он на Нестерова и Айвазовского. – Рояль тоже придется конфисковать. Гер Лехман, комендант клуба, давно просит достать рояль или пианино. Ты, Лизавета, хорошо поешь. Будешь для них петь, Олеся тебе подыгрывать. Они любят красивых женщин, дарят им подарки, хорошо кормят, конечно, не за просто так, – громко расхохотался он, довольный своими намеками.
– Я давно не пою и не играю, а про Олесю забудь, она еще ребенок.
– Ребенок, а на свиданье с Ванькой Прокопенко бегает. Губа у Ваньки не дур-р-а, гарна дівчина.
– Так ты картины сейчас заберешь или потом? – поспешила увести его от этого разговора Лиза. – Нестеров и Айвазовский – не модные художники, может быть, лучше возьмешь Поленова?
– Давай и Поленова. Я и море люблю, и лес. Коваль, Самоха, – позвал он со второго этажа вартовых. – Ну, что там, нашли что-нибудь?
– Нет там ничего, одни цветы и пальмы. Чудно как-то, чтобы в доме столько цветов было, и деревья в кадках росли…
– Гришка – садовод-любитель, дурью маялся, к Рождеству нарциссы для мамаши выращивал. Буржуи! Вы у меня еще попляшете, – сказал он с такой злостью, как будто эти люди всю жизнь над ним издевались, и им следовало отомстить. – Самоха, сыми-ка скатерть со стола, заверни картины. Да и вон те настольные часы, только смотри, фигуры не поломай (это были те часы, которые Сарра Львовна с одобрения Лизы как-то выбрала мужу в подарок на Новый год). Ну, а теперь прощевайте, Лизавета Григорьевна, спасибочки за подарунки. Правильно ты подметила, соседи должны помогать друг другу. Да по нынешним временам, нет соседей. Есть патриоты Украины, а есть враги, вот все ваше семейство – вражье племя.
В голове у Костюка все смешалось: революция, большевики, Рада с немцами. И те, и другие разделяли людей на своих и врагов и, назначая его в городе начальником, предоставляли ему, бывшему голодранцу, возможность властвовать над теми, кто был слабей его.
– Игнат, а ты, что примолк? – вспомнил он про своего зама, незаметно вошедшего в комнату и застывшего у входа.
– Весь сад облазили, – сказал тот угрюмо, недовольный, что Костюк командовал им, – ничего не нашли.
– Черт с ним, все равно не сегодня-завтра поймаем. Куды он от своего выводка денется? А тебе, что тут нравится?
– Все, но не имею права: при обязанностях.
– Ладно скромничать. Мы все тут при обязанностях: облегчаем жизнь буржуям. Коваль! – повернулся он к вартовым. – У тебя есть такие картины? Нет. Рояль есть? Нет. А у тебя, Самоха? Нет, говоришь. Так будут, на то у нас и произошла революция. Приедем за роялем, возьмем остальное. Я запомнил все, что тут есть, от меня не спрячешь, – погрозил он пальцем Лизе. – Здесь нам больше делать нечего, идемте в контору, а ты, Самоха, отнеси вещи ко мне домой. Только не говори моим бабам откуда.
– Слушаюсь, пан начальник.
Как только они ушли, в комнату вошла Марфа и, набросившись на Самоху, возившегося с картинами, велела ему повесить все на место.
– Оставь его, Марфа, – устало сказала Лиза, – Костюк не успокоится, пока все не отберет. Сказал, что скоро приедет за роялем и остальным добром.
– Чтобы у тебя глаза повылазили, – запричитала Марфа, выталкивая парня в спину и идя за ним, чтобы закрыть ворота, – чтобы тебя черти на костре в аду зажарили.
– Что ты, тетка, ругаешься, – огрызнулся Самоха, – я выполняю приказ начальства. Мне твои картины даром не нужны. Лучше бы дала хлеба или сала.
– Я тебе дам хлеба, я тебе дам сала. – Марфа вытолкала парня за ворота и с силой щелкнула задвижкой.
Николай вылез из погреба мрачней тучи и сидел на диване, не поднимая глаз. Ему было стыдно, что он ничего не мог сделать, чтобы защитить своих родных от такого произвола. Степан и раньше хамил, но чтобы допрашивать ребенка, унизить пожилых женщин, наговорить гадости Лизе и Олесе? Это уже был предел всему. Не меньше его переживала и Марфа: она тоже ничего не могла сделать с этим бандитом, бесцеремонно вытолкнувшим их с Еленой Ивановной за дверь.
– Как же, сынок, ты теперь выберешься отсюда? – спросила Елена Ивановна.
– Выберусь, мама. За меня не беспокойтесь. С вами, что теперь будет? Они не оставят вас в покое.
– Как жили, так и будем жить, – сказала Марфа. – Степан же – дурной, завтра ему в голову придет новая блажь, он и забудет про нас. Давай лучше думать, как тебе отсюда выбираться?
– Пойду пешком до Беловодов. Только документы надо у Митрича забрать, а потом как-нибудь возьмете мое пальто и чемодан.
– Я схожу к Ване, – обрадовалась Олеся. – Вартовые не догадаются.
– Нет, пожалуйста, никуда не ходи. Пусть Ваня сам сюда приходит или временно не встречайтесь, пока Костюк не успокоится. Не вечно же они будут меня караулить?
– Костюк еще обо всем пожалеет. И на него управа найдется, – сказала Лиза, которой на ум пришли кое-какие мысли.
– Ты это о чем? – спросил Николай, услышав в ее голосе угрозу. – Кто-нибудь приезжал из наших анархистов?
– Если бы приезжал. Есть и другие пути.
Он посмотрел на нее с подозрением: что это она задумала?
– Коля, так кто пойдет к Митричу? – спросила Олеся, которой не терпелось увидеть любимого.
– Ты и Марфа вызовете подозрение. Да и мама тоже. Давайте подождем. Митрич сам догадается и пришлет Ваню.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
САМИ СЕБЕ ХОЗЯЕВА
ГЛАВА 1
На московской обувной фабрике «Витязь» случилось чрезвычайное происшествие: ночью, прямо с территории фабрики, угнали охраняемый вагон, в котором накануне группа рабочих привезла из Тульской области муку, овощи и мясо, приобретенные в обмен на обувь. С этим обменом с самого начала были одни приключения. В Туле, за два часа до отправления поезда, к вагону неожиданно подошли красноармейцы, посланные местным Советом депутатов, и объявили Новотельнову, возглавлявшему экспедицию, что, так как и они, и крестьяне произвели незаконные действия, все продукты реквизируются на нужды местного населения.
Формально Совет был прав. Еще в марте Совнарком издал Декрет об организации товарообмена для усиления хлебных заготовок, по которому этим вопросом могли заниматься только местные продовольственные органы и уполномоченные на то Комиссариатом организации. Нарушители Декрета подлежали ответственности по суду. Но, если рассудить по-человечески, тульский Совет депутатов должен был понимать, что москвичи пошли на это от безысходности.
Не теряя времени, Новотельнов побежал в Совет депутатов выяснять отношения. Там его не только не пропустили к председателю Совета Федорову, но, обругав обидными словами, попросили «закрыть дверь с другой стороны». Тогда он отыскал в городе анархистскую группу, и те, возмущенные действиями Совета, целой делегацией во главе с анархистом Ярославом Полонцом отправились в Совет. Новотельнов при разговоре не присутствовал. «Ты, Алексей Афанасьевич, постой в коридоре, – сказал Полонец, – мы сами разберемся».
Слушая, как за дверью анархисты на повышенных тонах «разбираются» с Федоровым, он с тоской смотрел на висевшие в коридоре круглые часы. Время отправления поезда давно прошло, вагон, наверное, отцепили, и за его простой придется платить железной дороге солидный штраф.
Наконец анархисты вышли из кабинета. Полонец протянул ему разрешение на вывоз продуктов, скрепленное синей печатью Совета депутатов. Новотельнов с благодарностью обнял его.
– Спасибо, Ярослав Иванович, от имени всех наших рабочих спасибо.
– Прости, товарищ, что так получилось. Да ты особенно не радуйся. Федоров предупредил, чтобы это было в последний раз: наши туляки голодают, а мы Москву подкармливаем. В какой-то мере он прав.
– Мы же не просто так: в обмен за честно заработанный товар. Слышал, наверное, Ленин призывает рабочих создавать «продовольственные отряды», силой изымать у крестьян «излишки» хлеба. Посмотрим, что скажут на это ваши мужики: бесплатно никто свое добро не отдаст. А мы уступаем им в цене за свою обувь, да еще теряем на железной дороге… Ты бы, Ярослав Иванович, поговорил с железнодорожниками, пусть снимут с нас штраф за простой вагона…
– Поговорю. Так бывай, товарищ.
– Бывай, – с удовольствием пожал ему руку Новотельнов.
До Москвы доехали спокойно. На станции «Москва-товарная» повторилась та же история: подошли люди в кожанках (чекисты) во главе с представителем районного Совета депутатов Фельдманом и предъявили ордер на конфискацию продуктов. С Фельдманом Новотельнову иногда приходилось сталкиваться по делам фабрики: самоуверенный, грубый и въедливый до тошноты человек, недаром до революции служил ревизором по акцизной части. Фасону много, а толку мало. «Как такие люди попадают в Советы?» – задавался Алексей Афанасьевич иной раз вопросом, имея с ним дела. И сейчас Фельдман вел себя, как большой начальник: ходил по вагону, заглядывал в мешки, считал и сверял их содержимое с документами, которые отобрал у рабочих.
Новотельнов приказал своему помощнику Михееву бежать за подмогой на фабрику, благо она была не далеко: от товарной станции к ней вела одноколейка, по которой на фабрику по железной дороге привозили сырье и отправляли готовую продукцию. Рабочие всполошились. На станцию быстро прибыл отряд дружинников. Не обращая внимания на грозный вид чекистов, они оцепили вагон.
– Ну, и чего вы добиваетесь? – спросил Фельдман с насмешливым презрением, как будто имел дело не с рабочими, а бандитами. – Я могу вызвать два и три отряда красноармейцев. В тюрьму захотели?
– Дайте время до завтрашнего дня, мы все решим, – попросил Новотельнов, понимая, что силой здесь не поможешь.
– Новотельнов, тебе давно пора понять, кто в стране и городе хозяин, бросить свои анархистские замашки. Декреты правительства вашу фабрику почему-то не касаются. Вы предпочитаете своевольничать.
– Постановления мы читаем и исполняем. Может, какой из них и пропустили, так теперь исправимся. Только дайте нам отсрочку до завтра.
– Не знаю, на кого ты там рассчитываешь, но до двух часов дня потерплю, – смирился Фельдман, не желая связываться с дружинниками. – У меня уже люди и грузовики вызваны. Я не могу их держать без дела.
Утром рабочие обзвонили все анархистские федерации, редакции газет и журналов. Туркин лично поехал к Карелину, возглавлявшему анархистскую фракцию во ВЦИКе. Боровой связался с Луначарским. Даже председатель профкома большевик Лазарь Ефимович Метельский, бывший когда-то в ссылке в Нарыме вместе со Свердловым и гордившийся этим, сумел попасть на прием к Якову Михайловичу. Вопрос был решен в пользу рабочих. Вагон перевезли на территорию фабрики. Около него выставили охрану в семь человек. Сама одноколейка перекрывалась железными воротами. С той стороны в будке круглосуточно находились сторожа – обычно два человека, теперь с учетом криминальной обстановки в районе туда определили еще одного товарища. На случай тревоги у всех были винтовки и свистки.
Охрана была также у главной проходной и в действующих цехах. Время от времени несколько человек группой обходили всю территорию фабрики. Люди все свои, и не было нужды лишний раз напоминать им, какой жизненно важный для всех груз находится в вагоне. Проверив еще раз надежность охраны, Новотельнов, толком не спавший две недели, в половине первого ушел домой.
Ночь была тихая, звездная, как обычно бывает весной, когда днем светит солнце, а ночью подмораживает. Луна, как фонарь, ярко освещала облупившееся здание фабрики с нависшими на крыше сосульками, одинокий вагон и застывших около него караульных. Тишина и бездействие на одном месте наводят скуку и убивают бдительность, поэтому, когда от железных ворот к вагону направился рабочий Василий Галушко, известный на фабрике весельчак и балагур, караульные оживились. Забыл, наверное, Вася дома папиросы, а без папирос человеку на ночном дежурстве погибель. Глядишь, и расскажет что-нибудь веселенькое.
Так и оказалось. Попросив папиросу, Василий сел на ступеньки вагона покурить. Около него присели еще двое рабочих. Поговорили, пошутили, посмеялись над рассказами Галушко. Тот в благодарность за папиросы угостил их домашним мармеладом. «Супруга сама делала, – хвастался он, протягивая товарищам кулек со сладостями. – Она у меня мастер на все руки». Подошли другие караульные. Он и их угостил мармеладом – со вкусом малины и небольшой горчинкой.
Мимо прошли трое рабочих из охраны, обходившей территорию, поинтересовались:
– Ты чего, Василий, тут делаешь? В будке кто остался?
– Одинцов и Терещенко. Да я на одну минуту. Папиросы забыл, а ребята не курят.
– Смотрите там в оба. Под утро спать особо охота.
С другой стороны вагона находился забор. Когда-то за ним был пустырь, теперь понастроили там склады от Курского вокзала: место мрачное и подозрительное. Охранники внимательно осмотрели все доски на заборе, для верности провели по ним палкой – все в порядке. К воротам не пошли, раз оттуда пришел Галушко. Повернули обратно к главной проходной. Под их ногами звонко хрустел ледок, затянувший ночью лужи.
Галушко встал.
– Ну, что, ребята, пойду я.
– И, правда, что-то в сон потянуло, – сказал один из рабочих, присел на ступеньки вагона и, опустив вниз голову, захрапел.
– Стой, черт, подожди, – вдруг что-то сообразив, закричал другой рабочий и схватил Галушко за руку. – Ты же не женат. Тревога, – хотел закричать он, но язык его онемел, прилипнув к зубам. Он опустился рядом с товарищем на ступеньки вагона и привалился к нему плечом.
Через минуту все семеро крепко спали. Галушко оттащил их в сторону и, взмахнув рукавицей, подал кому-то знак в воротах. Они моментально открылись. Задним ходом, тихо пыхтя, въехал локомотив. Сверху спустились люди, прицепили к нему вагон с продовольствием, и – состав был таков.
Когда обнаружили, что вагон исчез, дали знать на товарную станцию и в ближайшее отделение милиции. Вагон быстро нашли, но пустой: грабители успели все вынести и вывезти.
Дружинники все еще спали мертвецким сном. Охрана, видевшая ночью около них Василия, сообразила, что он дал ребятам каким-то образом сильное снотворное. Два других сторожа за воротами, Одинцов и Терещенко, исчезли. Около будки нашли следы крови, видимо, сторожа не были в сговоре с Галушко, и тот или кто-то другой их убили, и тела увезли с собой.
Новотельнов почернел от переживаний, коря себя, что сам не остался около вагона. Сколько раз он убеждался, что в такие ответственные моменты нельзя полагаться, даже на самых проверенных людей. А ведь Галушко был свой человек, входил в рабочую комиссию, не раз ездил с ним по деревням обменивать обувь на продукты. И вот, на тебе, оказался предателем и бандитом.
– А что бы ты сделал, Алексей Афанасьевич, если бы и был тут, – утешали его товарищи, – тебя тоже «угостили» снотворным или чего хуже – убили, как Одинцова и Терещенко. Бандиты все продумали заранее.
– Может, и Василию пригрозили, силой заставили подчиниться, – высказал кто-то мысль, уж больно не хотелось верить в его предательство.
– Теперь не узнаешь, – с горечью изрек Новотельнов. – Ребята попались на его удочку. Наказать бы их по всей строгости, да жаль, и так животами мучаются…
– Хорошо еще живы остались. Был бы мышиный яд, то разговаривали бы с Богом…
– Говорят, это банда Шелудивого действует, из Питера. Там милиция вышла на их след, так они в Москву перебазировались.
– Поймать бы сволочей, задушил бы своими руками …
Эта неприятная история послужила лишним поводом профсоюзному комитету фабрики поднять вопрос о том, чтобы рабочая комиссия вошла в его состав. О таком слиянии большевики сейчас твердили на всех своих конференциях, забыв, что Ленин еще в апреле 17-го выдвинул лозунг «рабочего контроля» на предприятиях и призвал рабочих «немедленно требовать введения контроля, фактического и без отступлений, с участием самих рабочих».
На все заявления Метельского об объединении Новотельнов отвечал, что сам он ничего не решает: его выбирало общее собрание рабочих, пусть оно теперь и думает, что делать дальше. Рабочие фабрики растерялись. Новая власть наступала со всех сторон. То вышел один декрет, то второй, а то Наркомат прислал приказ о том, что вся промышленность переходит на государственное централизованное планирование, фабрика должна выпускать количество обуви, которое ей предписывается сверху (а это всего лишь четверть ее загруженности), под них давались деньги и сырье. Из десяти цехов теперь работали три, остальные простаивали. Двести человек остались без работы и зарплаты. Защищая советскую власть, Метельский убеждал рабочих, что это временное явление: ВСНХ и Московский совет депутатов ищут пути, чтобы выйти из экономического кризиса.
Верил ли преданный партии большевик в то, что говорил людям? Глаза его обычно возбужденно горели, но сейчас, кажется, и он понимал, что фабрика находится накануне краха, поэтому, когда Новотельнов собрал людей и объявил, что рабочая комиссия готова продолжить свою работу по сбыту и обмену товара, обеспечивать цеха заказами, профком не стал возражать. Фабрика снова заработала на полную мощность, и рабочие получили за апрель свой обычный заработок.
ГЛАВА 2
За развитием событий на «Витязе» следили все газеты. Многие возмущались, что из-за таких людей, как Новотельнов, безграмотных, не имеющих представления об управлении производством, рухнула вся промышленность. Вспоминали министра труда Временного правительства Скобелева, который в свое время предупреждал, что рабочая инициатива пагубно скажется на всей экономике и рано или поздно приведет ее к кризису. Только анархисты поддерживали обувщиков и другие немногочисленные предприятия, где продолжали действовать фабкомы и утверждались первые шаги народного самоуправления.
Николай Даниленко, работавший сейчас в газете «Голос труда» (московском органе анархистов-синдикалистов), сам постоянно звонил Новотельнову и приезжал на фабрику. Со времени их встречи в Харькове на июльской конференции 1917 года Алексей Афанасьевич заметно вырос как руководитель, стал уверенней в себе, хорошо разбирался в сложных вопросах производства, оставаясь в то же время мягким, отзывчивым человеком, заботящимся о людях. Сколько ударов обрушилось на фабрику за последнее время, а она продолжала работать. Даже более грамотный и политически зрелый Сергей Петрович Лапигин с кабельного завода не сумел мобилизовать коллектив, и предприятие остановилось. Пример кожевенников и им подобным давал анархистам-синдикалистам уверенность, что рабочие вполне могут управлять своими предприятиями (а в будущем и всем народным хозяйством), только бы им не мешали.
Однако у большевистского правительства были свои взгляды на работу инициативной комиссии обувщиков, оно решило закрыть «Витязь». Коллектив официально уведомили, что по постановлению Наркомтруда фабрика, как нерентабельное ныне предприятие, закрывается.
Упорный Новотельнов снова собрал людей; рабочие, среди которых было много анархистов, решили проигнорировать постановление правительства и продолжать работать.
Наркомтруда возглавлял бывший рабочий-металлист Шляпников, одновременно исполняющий обязанности наркома торговли и промышленности. Александр Гаврилович выразил желание приехать на фабрику, поговорить с людьми, рассказать о состоянии народного хозяйства и тем самым надавить на их совесть.
Николай посоветовал Новотельнову воспользоваться этим случаем и разъяснить членам правительства точку зрения обувщиков на творческую инициативу масс.
– Я не смогу, – запротестовал тот. – Что угодно, только не выступать перед высоким начальством. Лучше вы приезжайте с Волиным или Максимовым (эти оба анархиста переехали из Петрограда в Москву и тоже работали в «Голосе труда»).
– Хорошо. Соберите как можно больше народу.
– Да все придут. Наша судьба решается.
– А как там мой подопечный? – спросил Николай, имея в виду кучера, которого он когда-то направил на фабрику с запиской.
– Пряхин-то? Работящий мужик. Все операции освоил. Ну, а теперь видишь, что произошло?
– Не отчаивайся раньше времени.
Фабрика стояла. Эта непривычная тишина для большого предприятия наводила уныние на людей, не привыкших отступать перед трудностями ни во время первой русской революции, ни в тяжелые годы войны, ни при Временном правительстве. Теперь они ничем не могли побороть волю захвативших власть большевиков. Даже Метельский упал духом: он сам и его профком оказались беспомощны в данной ситуации.
Заседание проходило в здании управления. Хотя в успех дела никто не верил, зал был переполнен: хотели посмотреть в глаза людям, представлявшим новую власть. Кто этот бывший рабочий-металлист Шляпников, обрекающий ныне их, как и тысячи других рабочих в стране, на голодную смерть?
За столом президиума сидели представители рабочей комиссии, профкома и партийных групп. Николай пришел вместе с Волиным. Им тоже предложили сесть за стол в президиум, но они остались в зале среди рабочих. Председательствовал Новотельнов, облаченный по такому случаю в темно-синий костюм в мелкую клеточку, далеко не новый, но хорошо отутюженный его женой и ладно на нем сидевший.
С портфелями в руках появились представители правительства. Их было четверо. Впереди шел Шляпников, смотря прямо перед собой. Подойдя к столу, он пожал каждому сидящему там руку и тяжело опустился на указанный ему стул. Нарком явно был не в духе.
Первым выступил Антон Васильевич Лукьянов – бывший главный экономист фабрики, а ныне правая рука Новотельнова. Сильно волнуясь, так, что у него дрожал голос, он доложил начальству о том, каким образом фабрике удается выживать в нынешних условиях. Звучали термины: оборотные средства, дебит, кредит, излишки поступлений, прибыль, рынок сбыта. Специалист из «бывших», как сейчас называли всех, кто имел отношение к буржуазии и интеллигенции, Лукьянов был уверен, что представители Наркомтруда должны во всем этом хорошо разбираться (или просто хотел задурить им головы).
Поднялся Шляпников. Он говорил долго и обстоятельно: о трудностях переходного периода, о саботаже капиталистов, которые всеми путями стремились и стремятся дезорганизовать производство, вызвать экономическую катастрофу.
– Надо было сразу обуздать капиталистов, поставить их на колени, – разъяснял он. – Можно было это сделать в начале революции посредством немедленной экспроприации всех фабрик и заводов. Но пролетариат тогда не имел опыта управления и экономических органов, способных взять в свои руки руководство хозяйственной жизнью страны. Поэтому советская власть сразу не декретировала национализацию всей промышленности, а ввела на предприятиях, принадлежащих капиталистам, рабочий контроль. Теперь все изменилось: есть правительство, есть твердая рука власти. Промышленность полностью национализирована, но из-за войны и разрухи мы вынуждены многие предприятия временно закрыть. Не сомневаюсь, что опыт рабочих комитетов еще пригодится. Такова тяжелая реальность нынешнего времени, – заключил он, сворачивая бумаги, в которые ни разу не заглянул, – ваша фабрика – не единственная, кто оказался в таком положении.
Зал взорвался. Со всех сторон послышались возмущенные голоса.
– Нам ваша национализация не нужна. Мы без нее жили и проживем. Куда нам теперь деваться?
– При Временном правительстве нас прижимали, и вы туда же. А что дети наши с голоду будут пухнуть, вам наплевать.
– Мы вам – не слепые котята, чтобы с нами шутки шутковать?
– Это Ленин у них такой умный. Он то так, то этак, сперименты над нами ставит. Говорят, теперь своих директоров и инженеров везде назначает, чтобы под его дудочку плясали. Кричали: народ, народ, а до власти дорвались, так и народ стал не нужен…
– И верно: на «Богатыре» красного директора назначили, так он хуже хозяина: чуть что, увольняет. Ему и профсоюз не указка.
Не выдержав, Шляпников снова встал, поднял руку, призывая к тишине.
– Вот что я вам скажу, уважаемые товарищи. Интересы социализма требуют беспрекословного повиновения масс единой воле руководителя трудового коллектива. Поэтому управление хозяйством должно быть централизовано. Во главе предприятий теперь будут стоять директора, назначаемые советской властью, – он остановился и оглядел зал. – Наше решение о закрытии фабрики окончательное. К тем, кто ему противится, нарушает дисциплину, будут применяться соответствующие меры, как к провокаторам и саботажникам.
Это заявление еще больше всех возмутило.
– Ишь, напугал. Голод, небось, пострашней ваших мер.
– Говорят, он – из рабочих. Дайте ему молоток в руки. Пусть покажет, как умеет работать.
Позволив людям выпустить пар, Новотельнов постучал карандашом о край стола.
– Тише, товарищи, тише. В зале находятся анархисты-синдикалисты, интересно знать их мнение, просим выступить.
– Просим, просим, – раздались голоса, – пусть объяснят наркому, что сейчас нужно рабочим людям.
– Мы уважаем только анархистов, а большевики пусть катятся обратно в Германию.
Николай встал.
– Подожди, – остановил его Волин. – Я им сейчас покажу: пропадать, так с музыкой, – и направился к трибуне. Представители власти смотрели на него с настороженным любопытством.
– Товарищи, – обратился Всеволод к залу. – Мы много раз говорили вам, что любое правительство, из кого бы оно ни состояло: буржуазии, меньшевиков, эсеров или большевиков, придя к власти, будет заботиться только о собственном благополучии. Так было при Временном правительстве. Так стало и при новых товарищах, которые назвали свое правительство Советом народных комиссаров. Вы многие годы работаете на этом предприятии. Вы хотите продолжать работать на нем и имеете на это полное право. А в настоящее, тяжелое для страны время, когда враги угрожают революции, – это еще и ваш прямой гражданский долг.
Один из спутников Шляпникова вскочил, чтобы прервать красноречие анархиста, но нарком его остановил. Сева усмехнулся и продолжал дальше, указывая на наркомовцев.
– Эти люди, которые называют себя правительством, должны были приветствовать вашу инициативу, одобрить ее, но они смотрят на вас, как на нарушителей дисциплины, готовы применить свои жандармские санкции. Задам вам вопрос:
– У вас есть силы, чтобы продолжить работу?
– Есть, есть, – дружно закричали рабочие.
– Вы верите в успех, вы можете создавать команды, которые занялись бы поисками топлива, отправкой грузов, проблемами сырья и, наконец, поисками заказов и клиентов?
– Да, мы все это умеем. Правительство нам не указ. Мы без него прекрасно справимся.
Сева вернулся на место. Николай от души пожал ему руку.
Тут же стали выступать рабочие, прося правительство поверить им, и, если они не справятся с работой, наказать, как положено, только не останавливать фабрику. Наркомовцы сидели с каменными лицами. Шляпников снова подошел к трибуне.
– Все, что здесь говорил анархист-синдикалист, – заявил он, не скрывая раздражения, – провокация, которая служит на руку нашим врагам. Вы должны подчиняться общим установкам, а не требовать привилегий для своей фабрики. Я еще раз вас предупреждаю, а также господ анархистов, этих профессиональных неудачников и дезорганизаторов, что правительство ничего не может изменить в принятых с полным на то основанием решениях. Оно заставит так или иначе их уважать. Если рабочие сопротивляются, тем хуже для них! Они просто будут уволены без выходного пособия. Самых упрямых застрельщиков, врагов дела всего пролетариата будут ждать гораздо более серьезные последствия. А что касается господ анархистов, пусть они поостерегутся! Правительство сумеет покарать их, и без колебаний.
– Никто ваше правительство не выбирал, – опять понеслось из зала. – Вы сами себя назначили. Нам ваш Совнарком не нужен.
– Мы вашу власть не признаем.
– Ленин – хуже царя, делает, что ему вздумается.
– Мне очень жаль, что мы не услышали друг друга, – устало произнес Шляпников и с трибуны направился прямо к выходу. Вслед за ним поднялись его спутники и члены профсоюза во главе с перепуганным на смерть Метельским.
Рабочие не спешили расходиться. Они были готовы к тому, что предприятие закроют, поэтому стойко выдержали последний бой с новыми хозяевами. Выступление Волина им понравилось. Окружив его и Николая, они жали Всеволоду руку, говоря, что анархистам давно пора сбросить большевиков и взять власть в свои руки.
– Хорошо бы анархистской партии, – сказал кто-то, – объединиться с солдатами, арестовать нынешнее правительство и встать на их место. Рабочие вас поддержат.
– Ты, товарищ, ошибаешься, – ответил ему на это Волин, – у анархистов нет никакой партии. Сам говоришь, что тебе не нужна власть Совнаркома, и тут же взамен ее предлагаешь другую.
– Тогда я не возьму в толк, – рабочий смущенно почесал затылок, – как же товарищи анархисты будут это…, ну, распоряжаться этим…ну всем, одним словом, Россией?
– В твоем, товарищ, вопросе я вижу большевистское мышление. Вам обязательно нужно, чтобы вами кто-то управлял, стоял начальник с кнутом и штрафами. Это только что красноречиво продемонстрировал Шляпников. Мы же по-прежнему стоим за то, чтобы предприятия переходили в руки трудовых коллективов.
Неожиданно Николаю пришла смелая мысль.
– Подожди, – остановил он Всеволода. – Во Франции на стекольном заводе произошла ситуация, аналогичная вашей. И Жан Жорес, был у французов такой депутат парламента и известный социалист, предложил рабочим выкупить у хозяев завод и самим на нем хозяйничать. Фабрику, конечно, вам не потянуть, а вот выкупить часть оборудования вполне реально.
– Ну, допустим, выкупим, а куда его ставить?
– В городе полно заброшенных помещений. Можно присмотреть какую-нибудь развалюху, привести ее в порядок.
– А что, дело? Только как мы будем тягаться с другими предприятиями?
– Зачем тягаться? Сейчас люди предпочитают не покупать обувь, а чинить старую. Откроете пока починочную мастерскую, затем наладите производство новой обуви.
– Так ты предлагаешь нам создать кооператив?
– Считайте, что так. Примите Устав. Главное, все сделать по закону, чтобы никто не мог придраться.
– В кооператив всех людей не возьмешь.
– Человек сто будут заняты и то хорошо. Другие смогут выполнять заказы на дому.
– Можно еще сумки шить из кожи и мужские жилетки, – предложил кто-то, загоревшись идеей.
– Чего надумал, для этого надо уметь…
– В Сибири меня один эсер этому научил, и я вас научу, дело прибыльное. Мы бывало….
– С чего же все-таки начать? – перебил его, воспрянув духом, Новотельнов. Его потемневшее от всех переживаний лицо просветлело.
– Первым делом, – сказал Николай, – соберите деньги, первоначальный капитал. Придется потуже затянуть ремни, но через некоторое время с вашей инициативной командой все пойдет на лад, я не сомневаюсь.
– Мягко стелешь, да жестко спать. Сейчас и хлеб-то купить не на что, а вы хотите получить у меня деньги… Нет, я буду искать другую работу. Это верней.
– Поди, сыщи. Безработных пруд пруди…
– А ты, Сева, что скажешь? – обратился Николай к молчавшему Волину.
– Честно сказать, не знаю. Идея хорошая, но где взять столько денег.
– Может быть, «экс» устроить, – предложил кто-то из рабочих …
– Про «эксы» забудьте, – остановил его Волин. – Дзержинский и так считает, что у нас в организации полно бандитов, шлет нам ультиматумы.
– А может, он и прав. Вот «Анархия» недавно написала, что банк на Спиридоновке анархисты не грабили, потом призналась, что грабили. Куш там, наверное, был немалый, как раз бы нам на кооператив пригодился…
– Товарищи, – прервал его Новотельнов, – давайте ближе к делу. У кого еще есть соображения?
Вперед выдвинулся рабочий в аккуратном черном пиджаке и белой рубахе. Николай с трудом узнал в нем своего старого знакомого – кучера.
– Здорово, Николай Ильич, – весело сказал тот, протягивая Николаю руку, – узнал меня, Сергей Михайлович Пряхин?
– Здорово, Сергей Михайлович, – радостно пожал ему руку Николай, – рад тебя видеть. А ты что скажешь на мое предложение или опять подашься в извоз?
– Нет. Это занятие не для меня. Теперь я могу и сапоги шить, и подошвы латать, а могу, если товарищи разрешат, в этом кооперативе делать на заказ табуретки и чинить на дому мебель. – Правильно здесь говорили: рабочий человек с головой и руками не пропадет, только не мешайте ему, дайте возможность проявить себя. Я тебе, товарищ Новотельнов, в кооперативе стану первым помощником, а надо будет для общего дела – и в кучера пойду, только на время…
Все рассмеялись. Пряхин смутился и отступил назад в толпу.
– Считайте, что сегодня вы провели свое первое собрание, – Николай был доволен, что рабочие заинтересовались его предложением. – В следующий раз обсудите организационные вопросы, выберите правление и председателя.
– В председатели Новотельнова, тут и обсуждать нечего.
– Принимай, Алексей Афанасьевич новые дела.
– Нет, все-таки дело это мудреное, мы не потянем, – опять попытался кто-то внести смуту в общий энтузиазм, но его быстро поставили на место.
– Не дрейфь, товарищ, не пропадем.
– Хуже, чем сейчас не будет, а попробовать можно, – поставил последнюю точку Новотельнов.
ГЛАВА 3
Наконец и Метельский с профсоюзом пригодились. Лазарь Ефимович предложил Новотельнову вместе сходить к председателю районного Совета депутатов Лесниковскому, с которым Новотельнову приходилось иногда сталкиваться по вопросам фабрики. Тот, хотя и большевик, но имел славу человека «своего в доску». За большие дела не брался, однако там, где не надо было прилагать особых усилий, охотно помогал, особенно если предвидел для себя какую-либо выгоду. А нюх у него в этом отношении, как у бывшего полкового интенданта, был чрезвычайно хорошо развит.
Лесниковский внимательно выслушал рассказ рабочих о кооперативе и предложил им для этих целей бывший склад купца Мелешева без всякой арендной платы, то есть бесплатно. Склад сильно пострадал во время декабрьских событий 1905 года. Купцу в то время проще было построить новое здание, чем восстанавливать старое, что он и сделал, построив другое помещение на соседней улице.
Председатель райсовета убедил Новотельнова, что никаких официальных документов на «бесхозное» здание оформлять не надо: достаточно подать заявку в Совет, а он лично возьмет это дело под свое крыло и всячески поддержит его. Обещал выпросить у Шляпникова и оборудование с закрытой фабрики. За эту услугу рабочие всего-навсего будут бесплатно чинить обувь служащим Совета – это такая мелочь, ведь не каждый день у них протираются подошвы и ломаются каблуки.
Николая эти предложения «своего в доску» насторожили. Он сказал, что все надо делать по закону: оформить здание в аренду, выбрать правление, составить Устав кооператива, утвердить его на общем собрании и получить Патент. Лесниковский сегодня здесь, завтра на его место придет другой человек, и тогда пойди, докажи, что это здание и оборудование ваше, а не принадлежит тому же Лесниковскому или неизвестному дяде.
– Ну, ты, Николай Ильич, уж слишком, нужно доверять людям.
– И это ты говоришь мне после того, как большевики два раза арестовывали ваш вагон с сельхозпродуктами, а потом еще этот вагон кто-то угнал?
– Что же теперь никому не доверять?
– Доверяй, но проверяй. И на каждую полученную откуда-то и истраченную копейку имейте документы и храните их. Я продал кое-что из бижутерии своей жены, вручаю тебе деньги и квитанцию на них.
– Люди уже сдают мне деньги и ценные вещи без всяких расписок.
– Я удивляюсь тебе, Алексей Афанасьевич. Сколько Лукьянов вас учил строгому учету, видимо, не доучил или всем занимался сам. Это он зря делал.
– Обижаешь, Николай. Мы работали вместе.
– Так что же ты такие промашки допускаешь?
– Там было огромное производство, а здесь все свое, рабочее.
– Э-эх, товарищ Новотельнов, Алексей Афанасьевич! – сказал Николай с досадой. – Прогорите вы с такой доверчивостью. Жаль, что Лукьянов отказался участвовать в кооперативе, он бы вас научил бдительности при открытии такого важного дела. Придется подыскать людей, которые подготовят вам Устав, а ты попроси Антона Васильевича почитать его. Он не откажет.
Общими усилиями собрали приличную сумму: кто-то не пожалел, продал опустевший дом в деревне, кто-то сдал в наем угол в комнате, большинство же относили вещи в ломбард или скупку. И принялись сами ремонтировать здание, не выходя оттуда ни днем, ни ночью. Для уюта и комфорта приносили из дома приличные стулья, занавески, цветы, фикусы в кадках, дешевые картины.
Лесниковский, как и обещал, договорился с наркоматом, чтобы рабочим безвозмездно отдали с фабрики нужное им оборудование. Его все равно некуда было девать, и ловкие люди, подкупая охрану или обходя ее, выносили оттуда все, что можно было унести.
Получилась большая мастерская, с пятью рабочими помещениями. Самое большое из них выделили для Пряхина и его товарищей – мастеров на все руки, пожелавших войти в кооператив и делать на заказ табуретки и любые другие столярные и жестяные работы, перечень которых висел в приемной мастерской. Для всех клиентов обещали в первый месяц скидку в десять процентов.
Начался апрель, а с ним и дожди. Народ понес в мастерскую свою старую обувь с такими дырами в подошвах, что ее давно пора было выбросить на помойку. Приемщицы приветливо улыбались каждому посетителю и шли за советом к старшему мастеру Федоту Федотовичу Преснякову, человеку суровому и неприступному. Федот Федотович, только вчера ставший мастером и членом Правления, а до этого бывший лекальщиком, сердито хмурил брови, прося передать клиенту, что он получит завтра же свои галоши или сапоги, как новые.
– А сегодня нельзя? – с виноватым видом спрашивал какой-нибудь старичок приемщицу, пряча под стул рваные носки, – ты уж там по-хорошему упроси мастера, скажи, что домой не в чем возвращаться.
– Пойду, спрошу, – приветливо улыбалась приемщица и снова шла к мастеру, уже успевшему закинуть эти сапоги на самый верх: заказов было много, и все – срочные.
– Завтра и только к вечеру, – сурово отвечал Федот Федотович, – рабочие и так сидят до ночи. Зря объявили о скидке, несут одну дрянь. Так мы прогорим за милую душу.
– Федот Федотыч, – пыталась разжалобить его женщина, – клиент сидит в одних носках, ему не в чем домой идти.
– Знакомая история. Так многие делали до революции. Ты, Зинаида, им меньше улыбайся, они почувствовали твою слабинку. Иди к Новотельнову.
– Говоришь, в одних рваных носках сидит? – переспрашивал Новотельнов. – Надо на такие крайние случаи иметь тапочки.
– Тогда, Алексей Афанасьевич, они совсем нам на голову сядут.
– А ты войди в их положение. Это от отчаянья. Вся Москва разута и раздета, да и клиента упускать нельзя. Пойдут к Хабибулину за углом или в мастерскую Капустина.
– У нас скидка, а у них нет. Вот что будет после скидки?
– Так, Зинаида, ты – приемщица или уборщица? Иди и решай сама что делать. С такими пустяками ко мне больше не обращайся.
И Зинаида шла уговаривать кого-нибудь из рабочих выполнить лично дня нее срочный заказ. Тот отставлял в сторону свою работу и брался за рваные сапоги. Через час работа была готова, и довольный старичок, выложив свои жалкие гроши, уходил восвояси, приходя через неделю к другой приемщице, чтобы также разжалобить ее своими еще одними рваными сапогами или полуразвалившимися ботинками жены.
Больше всего заказов получал цех Пряхина. В нем изготавливали ножи, вилки, чугунные печки, ключи, замки, скобы для дверей. Женщины, оставшиеся после войны без мужей, приглашали рабочих на дом чинить кровати, диваны, рамы, отвалившиеся дверцы в буфетах и шкафах, старинные кресла. Иногда выпадали и более крупные работы: поставить печь, застеклить окна или сделать ремонт в квартире. Пряхин для этого дела нашел еще людей.
Зарабатывали по нынешней жизни не так много, но больше, чем другие цеха, но все шло в общий котел (временно, пока не встали на ноги – так решило общее собрание и записало об этом в Устав). Тем, кто выражал недовольство, Сергей Михайлович, поставленный в своем цехе мастером, с обидой, что люди не понимают всей своей нужности для общего дела, указывал на дверь: не нравится – уходите, как-нибудь без вас обойдемся. Конечно, никто не уходил: в Москве царили голод и безработица.
ГЛАВА 4
Автомобиль свернул с Садового кольца и долго петлял по арбатским переулкам, пока не остановился около особняка с шестиколонным коринфским портиком и массивным фронтоном.
– Приехали, Владимир Ильич, – шепотом сказал водитель своему пассажиру, профессору Даниленко, думая, что тот задремал.
– Уже, – Володя открыл глаза, но не спешил выходить. – Скажи мне, Максим, вот ты водишь машину три года, хорошо водишь, знаешь в ней каждый узел, а завтра начальство прикажет тебе вести паровоз, да не простой, а с ответственным грузом, например, с бомбами, что бы ты на это сказал?
– Отказался бы, Владимир Ильич, я себе не враг. Машину знаю, как свои пять пальцев, это точно, а на машиниста паровоза еще выучиться надо.
– Здраво рассуждаешь. А вот некоторые люди этого не понимают.
Максим догадывался, о чем говорит профессор: с переездом в Москву советского правительства его постоянно вызывали на консультации к высокому начальству по болезням, не имеющим к нему никакого отношения. Один раз были у самого Григорьянца, страдающего сердечными приступами. Там присутствовал и кардиолог Кирьянов, но Григорьянцу и его жене важно было знать мнение именно профессора Даниленко, московского светила.
В этом особняке, куда они сейчас подъехали, жил один из заместителей Дзержинского – Жмудский. Володя был здесь уже два раза, объясняя чекисту и его жене, что он специализируется в области мозговых и позвоночных заболеваний, а у больного – камни в почках и желчном пузыре. По этим болезням в больнице есть другие прекрасные врачи. Но супругам кто-то внушил, что, раз Даниленко возглавляет хирургическое отделение, значит, он специалист во всех областях медицины.
– Нам сказали, что вы раньше делали и другие операции, – суетилась вокруг доктора супруга Жмудского Веста Павловна, высокая, пышнотелая латышка, намного моложе своего мужа. Ей очень хотелось, чтобы ее мужа непременно оперировал профессор Даниленко. Современная правительственная элита требовала все самое лучшее, считая, что имеет на это полное право. Ленин вообще предпочитал вдобавок к своим врачам выписывать специалистов из-за границы. И лечились эти люди в дорогих санаториях, конечно, за счет государства. Еще Володя обратил внимание, что мужья, как правило, были из рабоче-крестьянской среды, а жены – из бывших аристократок, и наоборот, но снобизм у тех и других переваливал через край.
– Уверяю вас, – убеждал он женщину, облаченную в темно-синее шелковое платье с глубоким декольте, как будто она собралась в театр, – у нас все прекрасные врачи, доктор Назаров, приходивший к вам вчера, поставил точный диагноз.
– И все же Владимир Ильич, мы так на вас рассчитываем.
Володя прошел в спальню к больному, страдавшему больше всего от чрезмерной полноты: его вес составлял 147 килограммов. Ему недалеко от апоплексического удара и серьезных проблем с сердцем. Такие люди страшно боятся физической боли. Стоило поднести руку к его животу, как чекист закрывал глаза, съеживался в комок и охал. Жена вздыхала и охала вместе с ним.
– Геннадий Петрович, – Володя взял со стола рентгеновский снимок, – посмотрите на ваш снимок. Вот ваш желчный пузырь, вот камень, самый крупный и вызывающий тревогу. В любой момент он может перекрыть выход желчи из пузыря. Последствия могут быть необратимые. Вы носите в себе бомбу.
– Ах, я сам ничего не могу решить. Жена выписывает журналы, она все знает.
– Хорошо. Мы все обсудим с Вестой Павловной, но я вас предупредил.
– Веста, – елейно-сахарным голосом вдруг произнес больной. – Оставь нас с профессором одних.
Та с удивлением посмотрела на супруга: какие у него могут быть от нее тайны? – и, шурша своими шелками, нехотя вышла из комнаты.
– Профессор, – проговорил только что умирающий больной жестким голосом, – скажите, Николай Ильич Даниленко, кажется, ваш брат?
– Брат. А что случилось?
– Он состоит в федерации анархистов и ведет антибольшевистскую пропаганду; газета, в которой он сотрудничает, находится у нас под особым контролем. Самая вредная газета, подрывающая авторитет советской власти и ее руководства. Таких людей сейчас относят к числу врагов, – в его голосе послышалась угроза.
У Володи пробежал мороз по коже. Это расплывшаяся медуза, оказывается, не так проста: решила его припугнуть. Не зная, что ответить, он решительно заявил, что ему пора уходить.
– Что ж идите, – усмехнулся Жмудский. – Я вас больше не задерживаю.
Веста Павловна ждала его в столовой – большой комнате-зале с высокими потолками и обстановкой, оставшейся от прежних хозяев. Круглый обеденный стол посредине был уставлен едой и сервирован для двоих.
– Прошу вас выпить со мной кофе, – произнесла она бархатным голосом с акцентом, который придавал ей особый шарм, – заодно и поговорим.
– Спасибо, я должен ехать. С операцией больше тянуть нельзя. Для вас и вашего супруга, как я понимаю, важно мое непременное участие в ней. Я обещаю вам быть там вместе с профессором Назаровым. Немедленно отправляйте мужа в больницу, его начнут готовить к операции.
– Владимир Ильич, – обрадовалась супруга, – мы в долгу не останемся. Здесь, в особняке, есть прекрасные вещи, которые не многие могут оценить.
– Мне пора ехать.
– Разве вы не будете сопровождать мужа в больницу?
– За ним приедет машина с носилками и санитарами. Все будет хорошо, уверяю вас.
Поцеловав ей по старинке руку, он вышел из комнаты. Его распирало от злости. На завтра в отделении намечалось много важных дел, но из-за прихоти Жмудского все срывалось. А операцию надо делать срочно, пока бомба в его желчном пузыре не «взорвалась», и они с Назаровым не оказались виновны в ее последствиях.
– Ну, что, Владимир Ильич, придется паровоз везти? – пошутил водитель, видя его озабоченное лицо.
– Придется, Максим.
Дав в больнице необходимые распоряжения о Жмудском, он позвонил Николаю. Того, как всегда, в это время не было дома. Вежливый женский голос спросил, что ему передать.
– Передайте, что он большой свинтус и совсем забыл брата. Мне с ним нужно срочно увидеться.
– Обязательно передам, – засмеялся голос на другом конце. Володя тоже улыбнулся на собственную шутку.
Разговор с чекистом настолько его обеспокоил, что вечером он поехал к Николаю, решив его дождаться, когда бы тот ни появился.
У него были запасные ключи от квартиры и комнаты брата, но он все-таки позвонил. Открыла дверь красивая молодая женщина. У Николая теперь были новые соседи – анархист Григорий Максимов, его жена Ольга и родственники жены, сестры Раиса, Татьяна – эта красавица, открывшая ему дверь, и брат Игорь (Изя), маленький, горбатый юноша, веселый и добродушный.
– Николай Ильич еще не пришел, – сказала, улыбаясь, Татьяна. Видимо, это он с ней разговаривал по телефону, и она вспомнила его «свинтуса». – Хотите, я вас угощу чаем или ужином, только разогрею. Наших мужчин никогда не дождешься.
– Спасибо, у меня есть ключ от комнаты. Я там подожду.
Комната оказалась незапертой. Это Володе не понравилось. На столе лежали газеты, тетради, недописанные рукописи. Прочитав лежавший сверху свежий номер газеты «Вольный голос труда» со статьей Николая, он пришел в ужас: Николай ругал советскую власть и Ленина. Заглянул в тетрадь, где брат вел свои ежедневные записи, и тоже ужаснулся. «Большевизм, – писал Николай на первой странице, – постоянно доказывает, что государственная власть обладает одними и теми же свойствами; она может менять свое название, свои «теории», своих вождей, но на первом месте у нее всегда будут диктаторство и беззаконие». У Володи опять, как во время разговора со Жмудским, пробежал мороз по коже. Конечно, большевики, да и любая правящая партия не будут терпеть таких злостных выпадов против себя.
Пока он тут находился, дверь несколько раз открывалась: заглядывали то Татьяна, то ее брат Игорь. Такая бесцеремонность соседей еще больше возмутила Володю. Он не выдержал и закрыл дверь на ключ.
Николай пришел в половине первого ночи. Володя успел заснуть и резко вскочил, когда тот постучал в дверь. Увидев брата, Николай сразу засуетился, побежал на кухню ставить чайник. Володя пошел за ним.
– Да, подожди ты, не суетись. Мне надо сказать тебе пару слов, и я поеду домой.
– Еще чего вздумал. Я тебя не отпущу, останешься ночевать. Я нынче – буржуй. У меня есть хлеб, ливерная колбаса и пара огурцов – подарок от одних очень хороших людей.
– Ты, чертяка, – прошипел ему в ухо Володя, – почему не закрываешь дверь, когда уходишь из квартиры и оставляешь на виду все свои крамольные записи?
– Здесь все свои.
– Ты знаешь эту Татьяну, знаешь этого братца, который то и дело заглядывает в комнату и наверняка шарит по всем ящикам в твое отсутствие?
– Они тоже не закрывают дверь на замок, но мне и в голову не придет заходить к ним в комнату, когда их нет. Говори прямо, что случилось. Ты же не просто так пришел и срываешь на мне всех собак?
– Доставай свою ливерную колбасу и огурцы. Так уж и быть, останусь ночевать, но в 8 утра я должен быть в больнице.
– На счет этого не беспокойся. В храме чуть свет зазвонят на всю округу. Лене будешь звонить?
– Да. Ты пока все приготовь.
Вернувшись в комнату, Володя рассказал брату о своем визите к Жмудскому.
– Это лишний раз свидетельствует, – усмехнулся тот, – что они нас боятся. Их предупреждали, что рабочий класс к восстанию не готов. Они не послушались. Теперь, мало того, что потеряли часть России, посадили ее в калошу и не знают, как из нее выбраться. Все свои обещания нарушили. Мы не собираемся с этим мириться.
– Ты так раньше верил большевикам, конспектировал каждую статью Ленина, теперь с ними воюешь. Мне этого не понять. Да и анархистов я не понимаю, чего вы хотите?
– Ленин!? – усмехнулся Николай. – Да, когда-то, по молодости лет, я верил ему и всем нашим товарищам в Екатеринославе. Многих из них я до сих пор уважаю и надеюсь, что они думают о народе, а не о власти. Ленин же всегда стремился к власти, причем единоличной. Посмотри, кто его окружает, – ни одного достойного человека: Зиновьев, Каменев, Троцкий, прозванный им еще за границей «иудушкой». Зиновьев любое начинание Ленина встречает в штыки, выступил против «Апрельских тезисов», а затем и против Октябрьского восстания, считая его преждевременным. В ноябре организовал протест против однопартийного большевистского правительства, вышел из ЦК. Каменев его во многом поддерживал. Теперь они все снова с ним. Троцкий вошел и в ЦК, и в Совнарком. «Почему?» – напрашивается вопрос. Очень просто: такими «карманными» людьми легче управлять, навязывая им свою волю, вроде Николая II: я так хочу, и на всех остальных наплевать.
Кто Ленина не знает, считает его величайшим стратегом и тактиком, а он на всех давит, как танк, попробуй его ослушаться. Пожалуй, один Троцкий стоит особняком. Этот тоже любит власть и проявляет свой характер. Показал на переговорах в Брест-Литовске, что Ленин и ЦК ему не указ. В результате немцы теперь стоят в двух шагах от Петрограда, зря гибнут рабочие, срочно призванные защищать город и революцию.
– Думаешь, боится его?
– Кто его знает? Боится, но, скорей всего, не его, а эсеров, меньшевиков и нас, анархистов. Троцкий, хоть и «иудушка», свой человек, одного поля ягодка.
– Все хороши, взбаламутили страну, довели людей до крайности, теперь свои амбиции удовлетворяют. Не дают спокойно жить.
– Вижу, Жмудский тебя сильно напугал.
– Страшные они люди, Коля. С ними опасно играть. И разговор тонко ведут: спасибо, пожалуйста, попейте кофе и тут же тебе – информация о том, что ваш брат находится под наблюдением ЧК. Я бы на твоем месте срочно отсюда уехал куда-нибудь в среднюю полосу.
– Что я там буду делать? Там та же советская власть.
– У тебя вечная борьба. Что за жизнь? Ведь в таких условиях вы, анархисты, ничего не сможете сделать.
– Напрасно ты так думаешь. Мы хотим того же, что и большевики, только они давят своей диктатурой, а мы требуем, чтобы все делалось по инициативе народа, и народ нас поддерживает. Рабочие обращаются к нам за советом и помощью. Нет, здесь я на своем месте. Лизу бы сюда и детей.
– Размечтался, Манилов, – Володя громко зевнул. – Давай-ка спать. Только дверь хорошо закрой, а то твои соседи и ночью не дадут покою.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
КОНЕЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЕ
ГЛАВА 1
В эти смутные дни в Киеве было много всяких происшествий: убийств, самоубийств, громких ограблений, поджогов домов и магазинов. 25 апреля газеты сообщили о похищении из собственной квартиры известного миллионера Абрама Доброго. Новость взбудоражила город: было известно, что, кроме всего прочего, миллионер являлся членом финансовой комиссии Центральной рады и главой «Русского для внешней торговли банка», через который осуществлялись финансовые операции оккупационных войск с Рейхсбанком.
Поползли разные слухи. «Тот, кто похитил банкира, – рассуждали одни, – надеется вызвать скандал в Германии и под шумок перевести все деньги банкира на свои счета». «Нет, – уверяли другие, – это большевики увезли его в Петроград и передали в руки ЧК, чтобы Дзержинский заставил Абрама пожертвовать на нужды Советов один миллион рублей». «Глупости, – возражали третьи, – эти деньги от него требовали не большевики, а Добровольческая армия. Деникин приказал отдать банкира в руки контрразведки и получить у него все тот же миллион, только бы он не достался немцам».
Еще одни досужие умы приписывали похищение банде Зеленого, недавно появившейся под Киевом и нуждавшейся в покупке оружия и обмундирования. Были еще варианты такого же толка, заменявшие фамилию Зеленого на других атаманов: Григорьева, Соколова, Струка и чуть ли не самого Петлюры. Были и те, кто указывал на немецкую разведку, шепотом сообщая самым доверенным людям, что таким образом она хочет дискредитировать Раду, свергнуть ее и установить своих людей.
«Киевская мысль» узнала из «надежного источника», что похищением банкира руководил некто Осипов — чиновник особых поручений украинского Министерства внутренних дел, личный секретарь начальника политического департамента МВД Гаевского. Чиновник, якобы, предложил банкиру освобождение за 100 тысяч рублей, а тот не согласился. Несговорчивого пленника отвезли в Харьков и хотели поместить в Холодногорскую тюрьму, но там отказались принять такую важную персону без ордера на арест. Банкира отвезли в «Гранд-Отель», где под нажимом вымогателей он подписал чек на указанную сумму.
Враждебная Раде газета «Утро» все это подтвердила, со злорадством отмечая, что «… своей акцией украинское правительство хотело нейтрализовать членов влиятельных промышленно-финансовых кругов, которые с ненавистью относились к полуинтеллигенции из Рады, невежественной и самоуверенной, но не способной к какой-нибудь государственной и хозяйственной деятельности».
Германское командование обещало жестоко расправиться с исполнителями и заказчиками похищения, кто бы они ни были. То, что немцы не шутили, горожане убедились, когда однажды утром увидели на улицах немецких солдат и грузовики с пулеметами, прикрытыми брезентом.
Михаил в этот день ночевал в отеле у Рекашевых и, направляясь в университет, сам мог лицезреть на Крещатике своих бывших врагов, стоявших группами у грузовиков.
– Что они тут делают? – спросил он у встретившегося ему знакомого учителя из Александровской гимназии. – Даже пулеметы приготовили.
– Завтра открывается съезд помещиков и землевладельцев. Наверное, боятся провокаций. Говорят, и похитителей Доброго нашли, чуть ли не в самой Раде. Жди теперь расправы.
– Причем тут съезд землевладельцев?
– Дело не в съезде, а в земле. Народ хочет земли, а землевладельцы за нее крепко держатся. Крестьяне повсюду бунтуют, бьют и помещиков, и немцев, дождутся себе на голову Емельяна Пугачева, – сказал учитель и, спохватившись, что чересчур разговорился в двух шагах от немцев, заторопился дальше.
Михаил купил у разносчика газет «Киевскую мысль». Теперь редакция сообщала, что в похищении банкира замешаны депутаты и министры Центральной рады. Назывались фамилии министра внутренних дел Михаила Ткаченко, военного министра Александра Жуковского и самого премьер-министра Всеволода Голубовича. Это сообщение встревожило Михаила. Немцы могли начать репрессии против членов Рады и ее правительства, поверив в любые сведения, попавшие в их руки. Рекашевы тоже могли пострадать.
С таким настроением он пришел в аудиторию. Студентов было мало. Михаил радовался и этому: на лекции иных преподавателей вообще никто не ходил (было свободное посещение), и деканат постепенно их отменял. Удивительно, что университет еще работал, и преподаватели получали зарплату.
Во время перерыва после третьей лекции к нему подошел декан факультета Евгений Васильевич Спекторский. Вид у него был взволнованный. Взяв Михаила под руку, он отвел его в конец пустого коридора,
– Михаил Ильич, только что в деканат звонила ваша супруга. Два часа назад немцы на заседании Рады арестовали несколько человек, среди них и ваш тесть. Идите домой, я дам указание, чтобы студентов отпустили с лекций, а то, не дай бог, в городе начнутся военные действия.
С кафедры Михаил позвонил домой. Подошла Мария.
– Миша, – сказала она, плача, – тебе передали о том, что произошло в Раде?
– Передали. Я сейчас приду.
– Приходи скорей. Маме совсем плохо.
Немцев на Крещатике уже не было. На афишной тумбе висело свежее объявление: новый указ Эйхгорна. Фельдмаршал предупреждал, что отныне все уголовные преступления на территории Украины: похищения, убийства, выступления против немецких войск и властей, нарушения общественного порядка и пр., будут рассматриваться германским военно-полевым судом (при сохранении параллельной работы украинской правовой системы).
Кусок объявления отклеился, под ним виднелся старый приказ большевиков о расстреле контрреволюционных элементов.
Подошел дворник с банкой клея, бесцеремонно отодвинул локтем Михаила и, намазав вонючей жидкостью угол отклеившегося объявления, с силой прижал его ладонью.
– Порядок, а то вот также на Никольской дворник не доглядел и – каюк, – провел он рукой по шее.
– Неужели расстреляли?
– А что тут удивительного? Для немца важно, чтобы все было в ажуре. На то он и немец, – сказал дворник, наверняка приукрасив свой рассказ, и, бормоча что-то себе под нос, отправился дальше. Михаила охватило еще большее беспокойство.
В гостинице он застал Сергея Григорьевича. Взволнованным голосом тот рассказывал Марии и Аделаиде Ивановне о том, что произошло в Раде, не забывая повторять, какой это был особенный день для Украины.
– Мы дорабатывали Конституцию, которую завтра должны принять. Она объявляет полную свободу и независимость нашего государства. И так трагически все закончилось.
– Что же вы еще ожидали от немцев, ведь я, кажется, вас с Петром Григорьевичем предупреждал? – сказал Михаил, дослушав до конца Рекашева-младшего. – Волки остаются волками, как их не корми.
Поведение немцев в Раде было крайне возмутительно. Ворвавшись в зал, где проходило ее заседание, они приказали всем встать, поднять руки вверх и приступили к обыску. Затем объявили, что министры Ткаченко, Жуковский, Ковалевский, Любинский, Гаевский и ещё ряд лиц, среди которых был назван и Петр Григорьевич, арестовываются в связи с похищением банкира Доброго. Из министров на месте оказались только Любинский и Гаевский. Их и других арестованных увели, остальных отпустили домой.
– Что же делать? – спросила Аделаида Ивановна, внимательно слушавшая рассказ деверя. – Не представляю, к кому теперь обращаться.
– Может быть, к Эйхгорну? – Мария вопросительно посмотрела на мужа. – Объяснить ему, что папа в этом инциденте не участвовал.
– Пока не стоит никуда ходить. Если Петр Григорьевич не виновен, его и так отпустят. И все-таки, наверное, что-то есть, раз его арестовали. Ткаченко и Жуковский здесь постоянно бывали. Он мог находиться с ними в заговоре или знал о похищении, что фактически одно и то же. Интересно, когда они успели сбежать? Кто-то их предупредил…
– Михаил Степанович вчера здесь был, – сказала Ангелина Ивановна. – Вечером они с Петей куда-то уходили. Их мог, кто угодно видеть. Петя говорил, что они дорабатывают Конституцию. Вернулся в четыре утра, очень довольный; сказал, что получился хороший документ.
– Вы уверены, что немцы будут разбираться? Видели на улицах объявления Эйхгорна? – проявил озабоченность Сергей Григорьевич. Он был рад, что остался на свободе, хотя и уязвлен, что брат играет в Раде более важную роль, чем он, и многое от него скрывает.
– Нет, не видел, – сказал Михаил, чтобы лишний раз не расстраивать Аделаиду Ивановну, сразу изменившуюся в лице. – Давайте все-таки подождем. Я попробую, что-нибудь узнать через своих знакомых.
– Дорогой мой, я так на вас надеюсь, – сказала Аделаида Ивановна, вытирая слезы и прося зятя подойти к ее креслу, чтобы поцеловать его. – Скажите мне все-таки, что за объявления Эйхгорна везде развешены?
– Да это, мама, новые распоряжения о наведении в Киеве порядка, – опередила его Мария. – Не стоит на них обращать внимания.
– Ты же, Машенька, не была сегодня на улице. Стараетесь от меня все скрыть, а я все равно узнаю. Посмотрю газеты и узнаю, – упрямо повторила она, обводя воспаленными от жара глазами лица своих родных.
Сергей Григорьевич вскоре ушел, обещав прийти завтра с женой и дочерью.
– Никто из Рады сюда не позвонил и не выразил сочувствия, – сокрушалась Аделаида Ивановна.
– Все теперь думают о собственной шкуре, – сказал Михаил. – Не удивлюсь, если завтра в Киеве никого из Рады и правительства не окажется. Сегодня арестовали одних министров, завтра настанет очередь других.
– Неужели Добрый им важней, чем члены правительства Украины и депутаты ее верховной власти?
– Мама, тебе надо успокоиться. Миша завтра все выяснит и что-нибудь предпримет.
– Пропал наш особняк. Денег нет, ремонт не закончен. Этот отель тоже слишком дорогой. Если Рада нас бросит, нам будет плохо.
– Мама, вы же не одни. Мы вас никогда не бросим. Правда, Миша?
– Как это, Аделаида Ивановна, вам такое могло прийти в голову? Вам давно пора переехать к нам. Здесь очень шумно и столпотворение, как на вокзале.
На следующий день произошло другое чрезвычайное событие: собравшийся утром съезд «Союза помещиков и землевладельцев» провозгласил гетманство во главе с Павлом Скоропадским. Немцы полностью поддержали это решение. В три часа дня съезд закончился, а через час все его участники собрались на Софийской площади на молебен. Перед этим епископ Никодим благословил и миропомазал нового главу государства.
Раде настал конец, а вместе с ней и Украинской Народной Республике. Вместо нее была создана Украинская Держава во главе с наследственным правителем: гетманом Скоропадским. Министерства реорганизовались по старым образцам, восстанавливалось и прежнее российское административное деление на губернии, уезды и волости. Опять появились земские управы и городские думы, избираемые по старым законам. Премьером кабинета министров стал Федор Лизогуб, бывший, как и Скоропадский, потомком казацкой украинской аристократии. Все прежние указы Рады отменялись.
Михаил решил обратиться за разъяснением об аресте тестя к Скоропадскому, с которым сталкивался, когда служил в Киевском военно-окружном суде, а тот командовал 34-й армейским корпусом, написал ему личное письмо. Однако прошло две недели, а ответа семье арестованного Рекашева так и не поступило. Выждав еще две недели, Михаил отправился на прием к Елизарову. Евгений, как и говорил Михаилу несколько недель назад, занимал теперь солидный пост в Министерстве юстиции. Он никого не принимал, и просителю предложили прийти через неделю. Подавив гордость, Михаил пришел в указанный срок и снова ушел ни с чем.
Тогда он отправился к Евгению домой. Тому некуда было деваться, и он пригласил гостя в свой кабинет. Проходя по коридору мимо гостиной, Михаил услышал мужские голоса и смех.
– Миша, я ничем не могу тебя порадовать, – сказал старый друг, старательно избегая смотреть ему в глаза. – Эйхгорн настаивает на проведении военно-полевого суда для всех, кто причастен к похищению Доброго, он расценивает это как саботаж против немецких властей.
– Виновность Петра Григорьевича не доказана.
– Его часто видели вместе с Ткаченко. Я, кстати, сам их встретил на Крещатике в день похищения.
– Они вместе работали над проектом Конституции. Есть люди, которые по минутам покажут, где Петр Григорьевич был все эти дни: в Раде, отеле или у кого-то дома. Накануне ареста они сидели у Рекашевых в номере, работая над документами, принятыми Радой на следующий день после их ареста. Это могут подтвердить служащие и портье гостиницы.
– Ты сам в этом уверен? – сказал Евгений, раскуривая трубку. – Петр Григорьевич всегда был неразборчив в людях, легко поддавался всяким авантюрам.
– Ты должен ему помочь. Не забудь, что мы все вместе долго работали.
– Честно тебе говорю, Миша, не могу ничем помочь. Этот вопрос решают только немцы.
– Попробуй через Скоропадского…
– Это бесполезно.
– Ты сознаешь его бессилье?
– Он не будет ссориться с немцами. Ему сейчас самому надо утвердиться.
– Рада потерпела крах из-за того, что связалась с немцами. Скоропадского ждет та же участь, – сказал в сердцах Михаил и, холодно распрощавшись с товарищем, направился к выходу.
Через два дня после этого визита Петр Григорьевич вернулся домой. Михаил так и не узнал: отпустили ли его, не найдя состава преступления, сыграло ли свою роль его письмо к Скоропадскому или все-таки помог Елизаров? Так или иначе, тесть оказался на свободе, просидев в Лукьяновской тюрьме больше месяца. Бывший премьер-министр Рады Всеволод Голубович и министры, участвовавшие в похищении Доброго, вскоре предстали перед судом. Признав вину, они удивили всех тем, что выкуп, оказывается, им был не нужен. Своей акцией они хотели выразить протест фон Эйхгорну за отмену универсала Рады о социализации земли. Голубович и Жуковский получили по два года тюрьмы, остальные заговорщики – по году.
Петр Григорьевич постарел и замкнулся, так на него подействовали не столько арест, сколько предательство немцев, разогнавших Раду и нашедших теперь опору в лице Скоропадского. Михаилу было жаль тестя. Вместе с тем его одолевало любопытство, станет ли он работать на гетмана, если от того поступит приглашение. Приглашение последовало от министра юстиции Чубинского, работать в одной из комиссий под его руководством. Петр Григорьевич согласился, объяснив свое решение тем, что нужны деньги для содержания семьи и окончания ремонта в особняке. Теперь он работал без всякого энтузиазма, новых друзей не заводил и говорил домашним, что правительство гетмана слабое и разношерстное по взглядам, Скоропадский с ним долго не продержится, хотя у него много хороших идей.
– Кто же займет его место? – поинтересовался Михаил.
– Не знаю, но те же самые офицеры, о которых вы мне рассказывали, что-то опять затевают, и Елизаров в их числе.
– Может быть, Евгений сам хочет взойти на престол? – пошутил Михаил. – Не знал, что у него такие амбиции.
– Никто, кроме Грушевского, не годится для этой должности. Это – личность.
– Мне жаль Украину. Еще одного переворота она не выдержит.
– Надо ожидать другого: нового нашествия большевиков. Если такое случится, Михаил Ильич, нам всем придется бежать из Киева.
– Куда же на этот раз?
– Умные люди уезжают за границу. Поедем по следам вашего брата во Францию. Заживем весело. И Аделаида Ивановна, глядишь, поправится. Особняк нам теперь ни к чему, все равно пропадет. Лучше его продать и начинать копить деньги на другую жизнь.
– Вы это серьезно?
– Серьезней не бывает. Вы тоже потихоньку что-нибудь откладывайте. Или покупайте золотые вещи. Оно надежней.
– На зарплату преподавателя золото не купишь, – усмехнулся Михаил, проигнорировав слова тестя о бегстве за границу.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
РАЗГРОМ АНАРХИСТОВ
ГЛАВА 1
Петру Остапенко не повезло с пьесой о Парижской коммуне по книге Николая Даниленко «Цена измены», и все из-за монолога, написанного им самим для своего героя – журналиста Жана-Батиста Мильера. Не желая перед казнью вставать на колени, журналист обличает Тьера и его правительство в насилии и кровавой диктатуре. Вряд ли, сочиняя этот текст, Петр, далекий от политики, хотел нанести удар по большевикам и их правительству, но попал в самую точку.
На предварительном показе пьесы оказались бдительные товарищи и донесли об этом куда следует. Пьесу запретили, усмотрев в ней выпад против советской власти. Театры теперь были государственные, и местный партийный босс (секретарь ячейки), некий Иван Петрович Гудков, помощник директора по хозяйственной части, в прошлом столяр, работавший когда-то в мастерских Московского Художественного театра и возомнивший себя чуть ли не Станиславским, предупредил режиссера, что, если еще раз подобное повторится, ему придется расстаться с театром.
Ошарашенный вмешательством в его творческий процесс каким-то партийцем, Петр посчитал все это недоразумением и включил пьесу в репертуар на следующий месяц. Ему повторно пригрозили увольнением из театра. Тогда он крепко призадумался, как в такой обстановке работать дальше.
Гудков посоветовал ему поставить спектакль о гражданской войне. «И без всяких фокусов», – добавил он, охладив пыл молодого режиссера, мечтавшего сотворить что-нибудь в духе мейерхольдовского «Маскарада». Такие же деятели, как этот бывший столяр, только рангом повыше дошли до того, что присылали режиссерам инструкции с указанием, какие спектакли нужно ставить в зависимости от «подготовки аудитории».
Засев в библиотеке, Петр отыскал в советских журналах пьесу начинающего драматурга Федора Степанова «Смерть атамана» – об одном из вожаков контрреволюции в Псковской губернии Султане Соломатине. Тема революции в ней тесно переплеталась с любовной линией главных героев и их гибелью – то, что могло удовлетворить требованиям партийцев и понравиться публике, которую во все времена больше привлекали человеческие судьбы с их чувствами и переживаниями, чем политические страсти. Пьеса имела успех и получила одобрение свыше.
Петр давно звал на нее Николая Даниленко. Тот, наконец, собрался сам и предложил сходить на спектакль рабочим кооператива «Бегунок». Заодно пригласил и своих соседей Максимовых.
Сюжет пьесы захватывал с самого начала. Главная героиня – дочь рабочего Анна, необыкновенная красавица, решила убить белогвардейского атамана Соломатина, но промахнулась и попадает в руки врагов. Кто-то сообщает атаману, что его убийца – молодая красивая девушка. Соломатин приказывает привести Анну к нему, собираясь над ней надругаться, но, побеседовав с ней, поражается ее красоте и уму. Анне тоже кажется, что этот атаман, о котором ходили самые чудовищные слухи, совсем не такой страшный. Они влюбляются друг в друга, и Соломатин приказывает отпустить ее.
Выйдя на свободу, Анна видит, что рабочие и красноармейцы продолжают гибнуть от рук бандитов, и больше всех бесчинствует сам Соломатин. В ней снова вспыхнула ярость. Второй раз она уже не промахнулась: враг рабочих и любимый ею человек убит. Девушка опять попадает в тюрьму.
В речи своих героев автор вставил столько революционных фраз, что пьеса вполне соответствовала духу времени, цензорам не к чему было придраться. Покоряли режиссерская постановка и оформление спектакля: свет, музыка, монологи героини в сопровождении женского хора, как в греческих трагедиях, и небольшие пантомимы.
В последней сцене перед казнью Анна находится в камере одна. Она в белой нижней рубашке (хитоне) с длинными распущенными волосами. Бледный свет прожектора освещает ее печальное лицо: девушка тоскует о любимом человеке – атамане. Но вот за окном как символ революции ярко вспыхивает красное зарево пожара. Лицо ее преображается. Она протягивает руки к окну, готовая на любые муки. Зарево постепенно заполняет всю камеру и поглощает пленницу. Последние ее слова: «Да здравствует революция!» звучат на фоне тихих голосов женского хора и скрипки (Петр вставил, как задумывал, скрипку, и это усиливало эмоциональное воздействие спектакля).
Несколько минут потрясенный зал молчал, затем взорвался аплодисментами. Рабочие кооператива «Бегунок» первый раз были в театре и хлопали громче всех. Зная, что главным тут был товарищ Николая, они попросили позвать к ним режиссера, и долго жали Петру руку, обещая еще раз прийти на спектакль.
Родные Григория отправились домой, а они с Николаем решили погулять по городу. От сада Эрмитаж, где находился театр, спустились переулками к Самотечной площади и по Садовому кольцу пошли обратно к центру.
Стоял небольшой мороз. Нападавший днем снег приятно скрипел под ногами. После душного зала воздух казался особенно свежим, хотя рядом по мостовой мчались автомобили, оставляя за собой шлейфы газов. Вскоре их обогнала колонна грузовиков с вооруженными людьми. Часть машин свернула на Малую Дмитровку, другие поехали дальше, к площади Триумфальных ворот.
– Что бы это значило? – насторожился Николай.
– Мало ли что? – пожал плечами Максимов. – Большевики вечно что-нибудь придумают. Возможно, пока мы здесь гуляем, новый нарком объявил очередную мобилизацию в Красную армию…
– В газетах об этом ничего не было. И почему они собрались в этом районе? Пойдем, сходим к нашему клубу.
Грузовики остановились в начале Малой Дмитровки. Около Дома анархии все было спокойно. Из окон второго этажа по-прежнему торчали пулеметы, у входа стояла пушка. Их никто не собирался убирать, проигнорировав недавнее Обращение Дзержинского к населению Москвы немедленно сдать в ЧК все оружие, не получившее правительственного разрешения. У Федерации анархистов такого разрешения не было. Согласно этому Обращению они объявлялись врагами народа.
– Туркин так и не убрал пушку и пулеметы, – с досадой сказал Максимов. – Ты бы как близкий друг разъяснил ему, что они играют с огнем.
– Да говорил я ему и не раз, и Бармашу говорил, и Гордееву. Мне самому не нравится обстановка в клубе. Ходят какие-то подозрительные личности. Везде грязь, стены расписаны неприличными словами. У нас в Харькове за этим строго следили.
– Это обязанность коменданта. Говорят, и в других клубах не лучше. Мы же там не бываем. На предприятиях идет одна жизнь, в клубах – другая. Я думаю, что и Туркин с Бармашом многого не знают. Почему ЧК так упорно твердит, что у нас скрываются уголовники и разная контра?
– ЧК волнуют отряды Черной гвардии. Боится, что анархисты с их помощью совершат новый переворот и сбросят большевиков. Хорошо бы, да таких сил у нас нет. Эсеры и те не смогли их свалить. Ленин и Дзержинский могут спокойно спать.
Около Страстного монастыря стояли еще грузовики. Стояли они и на углу Тверской, и по обеим сторонам Тверского бульвара. В некоторых кузовах под брезентом угадывались пулеметы. Где-то впереди тарахтели моторы бронемашин.
– Все это странно, – сказал Николай, – напоминает октябрьские дни, когда по улицам разъезжали вооруженные красногвардейцы.
Другие прохожие тоже в недоумении посматривали на грузовики и сидевших в них людей. В целом же обстановка в этом районе выглядела мирной и будничной. Шуршали колесами автомобили, скрипели и взвизгивали на поворотах старые трамваи. В сторону Самотечной площади, наверное, от Александровского вокзала прошли две открытые платформы с дровами в сопровождении охраны – топливо нынче было в большом дефиците.
Рядом с Домом анархии находилось кафе поэтов, известное своими скандалами и пьяными дебошами. Видимо, посетителям сказали про грузовики с красноармейцами, и оттуда повалил народ. Мимо них прошли знакомые художники Алексей Ган и Казимир Малевич, печатавшие в «Анархии» статьи о новом искусстве. Увидев анархистов, они подошли к ним и поинтересовались, что происходит.
– Сами гадаем. Стоим тут уже полчаса.
– Идемте лучше с нами к Басевичу, – предложил Казимир. – Он выпустил новый сборник стихов, обещает ужин и шампанское.
– Нет, нам пора домой. Мы были в театре.
Не успели они перейти Страстную площадь, как сзади раздалась пулеметная стрельба. Они переглянулись и, не сговариваясь, повернули обратно. Грузовики по-прежнему стояли на своих местах, но уже без людей. Малую Дмитровку перегораживала двойная цепь красноармейцев во главе с группой чекистов. Напрасно Николай и Григорий умоляли пропустить их в Дом анархии, показывая свои документы, те были неумолимы. Один из них сказал, что из бывшего Купеческого клуба по приказу Дзержинского выбивают бандитов, и, если они сейчас не уйдут, их тоже арестуют. А там уже разгорелся бой: ревели пушки (с обеих сторон), трещали пулеметы и ружейные выстрелы.
Ближайшие переулки со стороны Тверской: Настасьинский, Дегтярный и Старопименовский, были перекрыты грузовиками и чекистами. Весь район вокруг Дома анархии оказался наглухо заперт. Кто-то из прохожих сказал, что бои идут на Пречистенке и Поварской улице (там находились другие клубы анархистов). Действительно, теперь уже гремело в разных местах центра.
– Пойдем домой, – взволнованно сказал Григорий, – может быть, и наш дом обстреливают.
– Успокойся, там ни у кого нет оружия, только у Игоря, так он не умеет им пользоваться.
Около их дома милиции не было, но проход в соседний, Леонтьевский переулок, где находилось помещение Конфедерации анархистов-синдикалистов, был перекрыт грузовиками. Около них в полном вооружении стояли латышские стрелки и милиция.
Дома они застали Леню Туркина и анархиста-синдикалиста Сергея Маркуса.
– Сережа, Леня, что происходит, – набросились на них друзья, – вы можете нам объяснить?
– Мы только что были в Моссовете, – удрученно произнес Маркус. – Из начальства там никого нет. Охранники сказали, что поступил приказ ВЧК: этой ночью отобрать у анархистов все клубы и ликвидировать отряды Черной гвардии. Нас попросту решили уничтожить.
– А что же эта старая лиса, Карелин, – возмутился Николай, – наверняка знал о готовящейся операции и никого не предупредил? Надо из него вытрясти всю душу.
– Кого и когда ЧК предупреждало, – сказал Туркин. – Я уверен, Аполлон Андреевич ничего не знал.
– Пойду, посмотрю, что там творится, – не выдержал Николай. – Какой-то гул на улице, подходят новые машины.
– Я с тобой, – подхватил Григорий.
Картина внизу изменилась: теперь грузовики с вооруженными людьми занимали весь переулок. На углу их дома гарцевали на лошадях два милиционера.
– Куда? Назад, – увидев их, закричали они в один голос и направили к ним лошадей.
– Можете объяснить, что тут происходит? – спросил Николай. – Мы – анархисты, в Леонтьевском переулке находится наша конфедерация.
– Анархистов мы не трогаем, только бандитов. Там есть оружие или отряд Черной гвардии?
– Нет.
– Так чего вы беспокоитесь? Идите домой. Вам тут делать нечего.
Туркин пытался дозвониться до других клубов: на Поварской (их там было несколько), Большой Дмитровке, Донской, Мясницкой, Большой Семеновской, Покровской, Арбате, в Архангельском и Чудове переулках, на Софийской набережной. Телефоны или не отвечали, или кто-то громко ругался в трубку, видимо, это были люди, захватившие здания.
Спать так и не ложились, прислушивались к звукам на улице: стрельба продолжалась, но уже меньше. Как только рассвело, Николай и Григорий снова вышли на улицу, по-прежнему перегороженную красноармейцами и милицией.
Около дома на углу стоял настоятель соседнего храма, молча наблюдая за происходящим. Говорят, в октябре 17-го, когда бои шли на Тверском бульваре и Большой Никитской, он уводил к себе раненых юнкеров. Его потом большевики арестовали и продержали несколько дней в Бутырке.
Милиционеры смотрели на него одни с презрением, другие – с любопытством. При грохоте орудий он широко осенял себя крестом и шевелил губами, читая молитвы. К нему подошел один из чекистов, попросил уйти домой. «Мало ли что может случиться, – вежливо сказал он. – Хотя мы Бога не признаем, проливать вашу кровь не хотим». Угрюмо посмотрев на него, батюшка скрылся в подъезде.
Леня беспокоился, что не может попасть домой, в Большой Козихинский переулок, чтобы успокоить родных. Ему подсказали пройти сквозными дворами в Газетный переулок, оттуда выйти на Тверскую.
Через три часа он вернулся, держа под мышкой ворох утренних газет. Все они сообщали, что ночью ВЧК совместно с красноармейцами отбили у анархистов здания, захваченные ими самочинно (как будто большевики заняли самые лучшие здания (дворцы) в Петрограде и Москве не тем же путем) и разгромили отряды Черной гвардии, готовившиеся произвести в России третью революцию и свергнуть советскую власть. Среди задержанных выявлено много бандитов, находящихся в розыске. Нет ничего удивительного, что они оказали вооруженное сопротивление, используя оружие, собранное для бандитских нападений и ограблений. Самый продолжительный бой произошел в Кускове, на загородной даче анархистов. Поняв бессмысленность сопротивления, бандиты взорвали бомбу и заживо сгорели. Погибло 15 человек, столько же было ранено. О количестве пострадавших чекистов не сообщалось. В каждой заметке употреблялись слова: бандиты, аферисты, грабители, наркоманы; клубы и дома анархистов назывались не иначе, как логова бандитов и контрреволюционеров.
Николай напрасно грешил на Карелина, что он знал о приказе Дзержинского и не предупредил товарищей. Аполлон Андреевич сам узнал об этом только утром и выступил с заявлением на заседании ВЦИК. Он и другой анархист во ВЦИКе Александр Ге потребовали от властей объяснений. Им ответили, что были арестованы и разгромлены одни бандиты. Идет проверка документов; если там окажутся идейные анархисты, их немедленно отпустят. В числе задержанных оказались Владимир Бармаш и другие члены Секретариата федерации.
ВЧК также заявила, что многие дома и клубы анархистов использовались антисоветским подпольем, а Дом анархии на Малой Дмитровке полностью контролировал «Союз Защиты Родины и Свободы» Бориса Савинкова. Комендант Дома полковник Эрдман и некий подполковник Бредис прятали там бывших кадровых офицеров и снабжали их оружием. Вместе с отрядами Черной гвардии они готовили выступление против советской власти. Следственный комитет ВЧК официально обвинил арестованного Бармаша и других членов Секретариата Московской федерации в укрывательстве контрреволюционеров. Но до суда дело не дошло, и их вскоре выпустили.
Подобные захваты клубов и зданий с типографиями, издательствами и федерациями анархистов прошли в Петрограде и других городах России. Многие анархистские газеты были запрещены и закрыты.
Разгром анархистов повлиял на всю их работу в Москве. Приезжая теперь на предприятия, Николай встречал настороженные взгляды рабочих. Чаще всего его просто останавливали в проходной, ссылаясь на указания сверху. В это же время в приказном порядке стали прикрывать рабочие комитеты, передавая их профсоюзам, подвластным администрации заводов и районным Советам депутатов. Большевики везде организовывали партийные ячейки, внедряли свои порядки и следили за бывшими рабочими активистами, чтобы вовремя поставить их на место.
Одни только рабочие сапожной мастерской «Бегунок» продолжали радовать своими успехами. Они работали, получали зарплату и на прибыль смогли открыть два новых цеха для изготовления женской обуви. Лесниковский их во всем поддерживал, оставаясь «своим в доску», но что-то изменилось и в его поведении. Рабочие все время ждали от него подвоха. И этот подвох однажды появился в приемной мастерской в виде прекрасного создания, надушенного и накрашенного, – Инги Эрнестовны Лесниковской, жены Петра Захаровича. Женщина уселась в кресло и на вопрос приемщицы, что ее сюда привело, требовательным голосом с акцентом заявила:
– Позови мне вашего самого лучшего мастера.
Перепуганная на смерть приемщица привела старшего мастера Климова, бывшего заместителем Новотельнова. Тот был в синем рабочем халате и темном берете, надвинутом на лоб, чтобы волосы не лезли в глаза.
Презрительно осмотрев его с ног до головы, как будто это был приказчик в бакалейной лавке, Лесниковская протянула раскрытый иностранный журнал с картинками женской обуви.
– Вы можете сделать такие же? – ткнула она пальцем в высокие белые сапожки на шнурках.
– Можем, – не моргнув глазом ответил Климов, который давным-давно, еще до фабрики, работал колодочником в известной мастерской Стулова и выполнял там самые сложные заказы московских модниц.
– Так вот, пожалуйста, сделайте ровно через неделю, к моему дню рождения, и из самой лучшей кожи.
Угодливо изгибаясь по старой привычке, (видно, не так просто выгнать из себя рабские привычки или желая угодить клиентке в общих интересах), Климов попросил даму снять туфли, аккуратно измерил все стороны ее ступней, лодыжек и икр, обтянутых тонкими шелковыми чулками.
Приемщица шепотом спросила у него, сколько взять с нее денег, хотя бы аванс, как обычно это делалось с другими клиентами, заказывающими новую обувь. Мастер прошипел ей в ответ: «…Все потом, потом, потом».
Ровно в срок сапожки были готовы. Поблагодарив мастера, довольная Инга Эрнестовна сказала, что деньги вечером занесет муж. Денег никто не принес, обращаться к Лесниковскому Новотельнов не стал, решив, что один раз простить забывчивость супругов можно.
С тех пор так и повелось: личные заказы стали приносить и сам Лесниковский, и его жена, и их знакомые, ссылавшиеся на имя председателя райсовета или приносившие от него записки; и все срочно, и все без денег.
– Что делать? – спросил Новотельнов Николая Даниленко, с которым теперь постоянно консультировался во всех сложных случаях.
– Не принимать больше от них заказов.
– Он нас погубит.
– Вы нигде не нарушаете законов. Ни ему, ни другим организациям у вас не к чему придраться.
– Если захотят, повод всегда найдут.
Но «свой в доску» оказался не так прост. Вскоре он потребовал, чтобы они отдавали ему часть своей прибыли, иначе он найдет на них управу. Так и заявил Новотельнову: «Сопротивляться не советую. Долг платежом красен». «Лицо его при этом было наглое-пренаглое, – рассказывал один из рабочих, присутствовавший при этом разговоре, – так и просило пулю в лоб».
Уверенные, что правда на их стороне, рабочие отказались платить мзду. Несколько недель никто их не трогал, и вдруг в мастерскую пришли две разнарядки: выделить людей в продотряд и мобилизовать в Красную армию тех, кто подходит по возрасту (по декрету о всеобщей воинской повинности, люди от 18 до 40 лет), то есть большая часть коллектива. К выполнению приказов подключилась ЧК. «Вот тебе и «свой в доску», – возмущались рабочие, – так ловко нас обошел. Откуда только такие берутся? Одна подлость за душой».
Через несколько дней еще один удар: с проверкой нагрянула финансовая инспекция. Целую неделю трое мужчин с непроницаемым видом и отпечатком важности на явно чекистских лицах внимательно изучали все записи и документы, где, конечно, не упоминалось о левых (Лесниковских) заказах, и был очевиден перерасход дорогих материалов. Нашлись и другие нарушения (при желании их всегда можно найти, как говорил Новотельнов). На мастерскую наложили крупный штраф. Доказать козни супругов Лесниковских было невозможно и главное – бесполезно.
За этой комиссией пришла другая, и тоже наложила штраф, теперь уже за нарушения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Терпение рабочих лопнуло. Они направили жалобу Свердлову, описав всю создавшуюся ситуацию с «иждивенцами» из Совета депутатов. Председатель ВЦИК обещал разобраться, спустил их жалобу вниз, в райком партии, откуда тоже по записке Петра Захаровича приходили «свои» заказчики. Само собой никаких мер к нему не было принято, наоборот, «свой в доску» окончательно обнаглел и теперь уже требовал от Новотельнова крупные суммы денег.
– Как ты думаешь, – спрашивал убитым голосом Новотельнов Николая, – он взяточник или так относится к нам, потому что мы – анархисты и над нами можно как угодно издеваться?
– Да самый обычный прохвост. Они сейчас, как черная пена, всплыли на поверхность и готовы загубить любое хорошее дело. А отношение большевиков к анархистам дает ему двойное право действовать безнаказанно.
– Вот не повезло, а так удачно все начиналось.
Напряжение нарастало. Чем-то это должно было кончиться и кончиться печально. В коллективе были свои Бароны, Кныши, Меженновы. Николай был уверен, что кто-нибудь из рабочих обязательно прибьет Лесниковского вместе с его драгоценной супругой. Петр Захарович это тоже предвидел и снова натравил на рабочих ЧК. Без всякого предупреждения мастерскую закрыли и опечатали, а рабочим, в случае сопротивления, пригрозили арестом. Чекисты – не жандармы (в этом анархисты, и не только они, давно убедились), эти четко выполняют свои угрозы. Обувщики отступили. О том, что согласно Уставу при ликвидации кооператива должны быть выполнены необходимые в таком случае процедуры, никто не заикался.
Лесниковский вскоре пошел на повышение, став начальником в каком-то отделе Наркомата по делам продовольствия, переехал в другой район, но возмездие настигло его семью и там: как-то днем на улице рядом с их домом были найдены трупы обоих супругов. Дамская сумочка, деньги и дорогие вещи Инги Эрнестовны и Петра Захаровича остались при них, что наводило на разные размышления. Милиция долго искала убийц, в конце концов, списав все на действующую в этом районе банду Степана Рыжего – «Рыжего дьявола», как он значился в «черном списке» преступников. Много тогда в Москве и Питере развелось подобных банд, которые пополнялись за счет оставшихся не у дел бывших солдат и выпущенных из тюрем по амнистиям криминальных элементов.
ГЛАВА 2
Воскресенье днем Максимов привел неожиданного гостя: Нестора Махно из Гуляй-поля, приехавшего в столицу посмотреть, чем живут и дышат московские анархисты. Одет он был в гимнастерку с портупеей и кирзовые сапоги, на голове красовалась все та же белая барашковая папаха, что была у него во время его визита в Ромны.
– Анархист с Украины Нестор Махно, – представил его Григорий, – ищет по всей Москве Аршинова. Туркин его зачем-то послал сюда, к тебе.
– Правильно, Петр приходил ко мне за книгами, но давно ушел.
– Жаль, – расстроился Нестор. – Он случайно не сказал, куда?
– Кажется, в «Метрополь» к Бурцеву.
– Нестор живет в Москве две недели, и уже успел встретиться с Кропоткиным, Свердловым и даже Лениным. Так что мы его не отпустим, пока он все не расскажет.
– Мы с Нестором знакомы, – сказал Николай, пожимая тому руку. – Сидели в одной тюрьме в Екатеринославе, год назад встречались в Ромнах, затем вели переписку. Помнишь, наверное, редактор харьковской газеты «Хлеб и Воля», Николай Даниленко. Любопытно, как ты попал к Ленину?
– Подожди, Коля. Сядем за стол и все узнаем, – остановил его Григорий и повел Нестора на кухню, где обычно принимали общих гостей, а они почти всегда были общие, анархисты из Москвы и других городов.
Ольга и ее сестры быстро накрыли на стол. В Харькове друзья Николая питались его продуктами из Ромен. Здесь Максимовы привозили из своей родной деревни Митушино (где-то под Смоленском) овощи, соленья, грибы: сушеные, соленые и маринованные, разные наливки. Как только они подходили к концу, Игорь собирал в большую корзину пустые мешки и отправлялся в Митушино, умело обходя на обратном пути загранотряды.
Угощение было нехитрое: пайковые хлеб и селедка, сало, вареная картошка, деревенские соленья. В центре стола стояли бутылки с самогоном и вишневой наливкой.
После нескольких рюмок – за гостя и хозяев, Махно принялся критиковать московских анархистов, мол, ожидал увидеть в столице их деятельную работу, а услышал одни пустые разговоры.
– Понятно, что большевики учинили здесь разгром, – говорил он с упреком, – но нельзя целыми днями сидеть в клубе и слушать лекции своих товарищей, пусть и таких уважаемых, как Боровой и Рощин-Гроссман. Зачем мне, например, сейчас знать о творчестве Льва Толстого или падении Римской империи, когда мой народ страдает от насилия немцев? Товарищи целыми днями просиживают в клубе вместо того, чтобы ехать в глубинку, где сейчас они больше всего нужны. Да и язык лекций никуда не годится. Половину не поймешь…
– Нестор, – возразил ему Николай, – ты в Москве всего несколько дней, а берешься судить о нашей работе. Конечно, обстановку на оккупированной Украине не сравнить с более спокойной жизнью в Москве, но это спокойствие мнимое. Здесь полно своих трудностей. Большевики устроили террор против эсеров, теперь взялись за нас. Если мы все разъедемся, как ты предлагаешь, по глубинкам, бросим рабочих на произвол судьбы, то все, что здесь еще осталось от анархизма, будет уничтожено в два счета.
– Я тут не видел людей, которые могли бы возродить наше движение. В своем уезде, до вступления немцев на Украину, мы сделали гораздо больше, чем вы тут. Ты, товарищ, сам об этом писал в своей газете.
Нестор всегда отличался своенравным характером и страшно не любил, когда ему перечили. Николай помнил это по тюрьме. За это надзиратели его постоянно били и бросали в карцер. Годы и Бутырка не изменили его буйную натуру.
– Никто с этим не спорит, – продолжал Николай. – Немцы уничтожили все ваши начинания, а здесь все уничтожают большевики. В феврале они объявили об организации Красной Армии и пойдут на Украину вышибать оттуда немцев и Скоропадского. В случае их победы там установится точно такая же советская власть, как в России, с диктатурой Ленина и Совнаркома.
– Пока еще этот фронт раскачается… Украинские крестьяне больше не могут терпеть присутствие немцев. Они разорили всю деревню. Я тебе, товарищ Даниленко, писал в письмах, что у нас в Гуляй-поле был образован Комитет защиты революции, был и свой отряд Черной гвардии. Но немцы это – силища, их двумя – тремя отрядами не одолеешь. Мы уехали в Таганрог, провели там конференцию и решили снова собраться в Гуляй-поле в июне, чтобы серьезно взяться за немцев и гетмана.
– Зачем же ты приехал в Москву?
– Посмотреть, чем тут занимаются анархисты и можно ли ждать от них помощи. Теперь вижу: надо надеяться только на себя. Беседовал я с товарищем Туркиным. Больно и обидно смотреть на этого деликатного товарища, но еще обидней видеть в нем безвольного человека, с которым другие делают, что хотят, а он, как безвольное существо, не может постоять за себя.
– Ну, это ты зря, Нестор. В тебе живет многовековая обида крестьянина на городских жителей, которые, по мнению сельчан, жируют и бездельничают, и лишь они одни пашут и трудятся в поте лица. Ты глубоко ошибаешься. Анархисты в Москве немало сделали для того, чтобы развить и укрепить наше дело. И на счет Туркина ты не прав. Ты застал Леню в самый неподходящий момент, когда федерацию разгромили. Да, сейчас он занимается хозяйственной деятельностью, но в период войны и после февральской революции, находясь в Москве, он многое тут сделал не в пример другим.
– Ты на кого это намекаешь? – вскочил Махно, размахивая руками, так что Максимов с трудом усадил его обратно на место. – Вы все сбежали за границу, а мы с Аршиновым и другими товарищами сидели в тюрьме, закованные в кандалы.
– Это не дает тебе право оскорблять хороших людей.
– Ну, хорошо, допустим, ты прав. И все вы правы, но все равно я остаюсь при своем мнении,– оглядел он всех с победоносным видом.
– Значит, Нестор, ты решил начать войну с немцами и гетманом? – спросил Максимов, не желая с ним спорить.
– Конференция решила, я только поддерживаю и исполняю то, что поручают мне товарищи. Дело ответственное, одних только слов и желаний недостаточно.
Махно много пил: Григорий достал из буфета шестую бутылку с наливкой. Глаза Нестора горели нехорошим, желтым огнем.
– Так ты тоже с Украины? – неожиданно спросил он Николая.
– Из Ромен. Именно там мы с тобой и встречались последний раз.
– Да помню я все, помню, – отмахнулся Нестор.
– Но если помнишь, так я тебе вот что скажу как украинец украинцу. Сейчас на Украине полно разных отрядов. Все – патриоты и революционеры, а занимаются грабежами и еврейскими погромами. Бороться придется не только с немцами и Скоропадским, но и с этими отрядами. Ныне Украина – бурлящий котел.
– Мы со всеми справимся. Всех в этот котел и – баста, – воскликнул он, с силой ударяя кулаком по столу, так что вся посуда на нем подпрыгнула, а пустая бутылка свалилась на пол и разбилась. Глаза его снова вспыхнули демоническим огнем.
– Но ты не военный человек, – продолжал возражать ему Николай, – у тебя нет ни опыта, ни знаний.
– Ты, товарищ, не учитываешь одного: да, я – не боевой офицер, но я всегда добиваюсь своего, характер у меня такой, народ меня за это уважает и пойдет за мной, куда угодно. Соберу людей, организую школу офицеров. Армия будет, как у Николая II, – со штабом, полевыми командирами, связистами, разведкой, агентурой. Зря что ли я по России так долго ездил.
– А дальше что будете делать? – спросил Григорий, пытаясь понять: серьезный это человек или распелся тут соловьем под влиянием спиртного?
– Не понял?
– Что будете делать, когда немцев и Скоропадского прогоните?
– Создадим на Украине свою анархическую республику, будем строить социализм. До прихода немцев мы готовили крестьян к жизни в свободных коммунах.
Он обвел всех своим тяжелым взглядом из-под бровей.
– А я люблю смелых, как ты, – сказал он Николаю и вдруг резким движением схватил его за галстук. – Не побоишься, если к стенке приставлю?
Николай ребром ладони ударил его по руке. Охнув от боли, Нестор вскочил и потянул руку к кабуре с пистолетом. Испуганные женщины и братец тоже вскочили. Игорь неожиданно для всех вытащил из кармана новенький браунинг. Татьяна ахнула.
– Тише, тише, друзья, – успокаивала их Ольга. – Вы, Нестор Иванович, лучше скажите, зачем вам Аршинов понадобился?
Нестор опустился на стул и, вытерев рукавом гимнастерки красное вспотевшее лицо, налил полный стакан наливки.
– Аршинов и Рогдаев – мои первые учителя. Я им верю, как самому себе. Н-н-настоящие революционеры. Хочу, чтобы они оба вели у меня в армии пропаганду, вроде комиссаров у большевиков. Будем выпускать газеты, воззвания. Вот так. У меня все продумано.
– Нестор Иванович, вы обещали нам про Ленина и Свердлова рассказать, – вступила в разговор Татьяна. Ее огромные черные глаза смеялись и заигрывали с гостем. – Говорят, для простых смертных эти люди недоступны.
– Один товарищ, – Нестор неохотно начал свой рассказ, но по ходу его все больше воодушевляясь, – послал меня к Затонскому, чтобы он помог оформить документы на выезд из России, а я попал к Свердлову. Тот, узнав, что я с Украины, повел к Ленину; оказывается, Владимир Ильич любит общаться с простыми людьми. Я ему всю правду про крестьян и выложил. Он не сразу понял, что я – анархист, а когда понял, то спрашивает с такой хитрецой: «А зачем, товарищ, вам нужно развивать анархическое явление в жизни крестьянства? чтобы открыть путь контрреволюции и повести пролетариат на эшафот?» Я не сдержался и объяснил ему, чего хотят анархисты. Вообще интересно было с ним беседовать, человек широкой эрудиции, в курсе всех событий, но себе на уме. Потом сказал при мне Свердлову, что «анархисты близорукие фанатики, пропускают настоящее для отдаленного будущего». Положил под конец в бочку меда ложку дегтя.
– Молодец, Нестор, правильно мыслишь, – искренне похвалил его Григорий. Николай молчал, он не мог успокоиться от выходки Нестора.
– Вы, товарищи, на меня не обижайтесь, – горящие жаром глаза Нестора потухли и увлажнились. – Мы тут немного пошумели, но это только на пользу между людьми, которые делают общее дело. А Украина наша загибается. Душа болит, разрывается на части, что все над ней измываются. Я даже посвятил ей стихотворение. Хотите послушать?
– Конечно, – воскликнули в один голос сестры, и Татьяна одарила его игривой улыбкой.
– В будущем я мыслю ее такой:
Где не было бы ни рабства,
Ни лжи, ни позора!
Ни презренных божеств, ни цепей,
Где не купишь за злата любви и простора,
Где лишь правда и правда людей…
– Неплохо получилось, – опять похвалил его Григорий.
– Теперь я должен доказать Ленину и Свердлову, что анархисты не бросают слов на ветер. Мы не только выгоним всех врагов, но возьмем власть в свои руки и построим нашу жизнь по своему собственному разумению.
Пришел Аршинов и, ссылаясь на позднее время, увел его.
– Интересный человек этот Махно, – задумчиво протянул Григорий, – только много в нем фанфаронства. Как тебе кажется, Коля?
– Выпил много. А на Украине он, действительно, успел проявить себя многими ценными начинаниями. Народ его слушает. Так что и с армией может получиться. Там уже есть одна такая одержимая – Маруся Нефедова, я тебе о ней рассказывал. Была хорошей художницей, устраивала светские приемы в Женеве и Париже, а теперь гуляет по Украине со своим боевым отрядом.
ГЛАВА 3
Костюк выполнил свою угрозу: на следующий день к дому Даниленко подъехал грузовик. Из него вместе со Степаном вылезли четверо вартовых. На стук в ворота вышла Марфа. Сунув ей под нос какую-то бумагу о конфискации имущества и рояля, Степан направился в дом.
– Ну, что, барыня, – сказал он с издевкой Елене Ивановне, – попользовались своим инструментом, теперь дайте и другим поиграть. Только как его отсюда вытащить? – задумался он, так как рояль не мог пройти через дверь. – Придется ломать стену.
Когда рояль в свое время привезли из имения Шаповалов, Илья Кузьмич разобрал часть стены между окнами, и, как хозяин, делал все аккуратно. Вартовые же так усиленно работали ломом и лопатами, что вместе с кирпичом выбили обе рамы. Рояль вытащили и на веревках подняли в кузов грузовика, поцарапав полированную поверхность.
– Варвары, душегубы, чтоб у вас руки поотсыхали, – кричала на них Марфа, видя такое безобразное отношение к инструменту, но те только посмеивались.
– Оставь их в покое, Марфушка, – сказала Елена Ивановна, – все равно теперь он не наш.
– Так и их власть не вечная, завтра придут большевики и всех душегубов повесят.
– Ты, тетка, говори, да не заговаривайся, –пригрозил ей Степан. – Тебе давно пора язык отрезать.
– Напугал, шут гороховый. Ты сам бандит, и власть твоя бандитская.
Покончив с роялем, Костюк приказал вартовым вернуться с ним в дом и собрать вещи, примеченные накануне: картины, настольные часы, торшер с россыпью рожков, саксонскую посуду Шаповалов, старинную люстру с хрустальными подвесками и многое другое из имущества Фальков. В этот раз ему еще приглянулся секретер Елены Ивановны, на который он раньше не обращал внимания. Пока вартовые относили награбленное добро в машину, он, как ребенок, открывал и закрывал многочисленные ящички в нем, бесцеремонно выбрасывая оттуда на пол не интересные ему предметы. Секретер тоже отправили в кузов грузовика. С этим Костюк и уехал, обещав наведаться еще раз и произвести более тщательную «ревизию» в шкафах и буфете.
В доме стало холодно, как на улице. Марфа побежала звать на помощь соседей. Пришли Дорошенко и его внук Ваня, племянник деда Афанасия Данило, еще мужчины и женщины; общими усилиями заделали дыру в стене, вставили рамы и стекла, поклеили обои. Агриппина тут тоже вертелась: охала и ахала, ругая на чем свет стоит своего «ненасытного» зятя.
Женщины испекли пироги, и после работы все уселись за стол. Агриппина принесла из дома вино, водку, три круга сырокопченой колбасы (из награбленных припасов Костюка). «У него там всего много, – весело объявила она, выкладывая на стол колбасу с ароматным запахом, – все равно не заметит». Посидели и поговорили в своем домашнем кругу, как в былые годы. Елена Ивановна воспрянула духом, так ее тронуло участие и помощь соседей.
Лиза позвала Митрича в свою комнату.
– Аникий Дмитриевич, дорогой, – сказала она, вынимая из шкафа запечатанный конверт, – не в службу, а в дружбу, передайте это письмо с кем-нибудь из надежных людей в Александровск Марусе Нефедовой. Я не знаю ее нынешнего адреса, но она человек известный, люди укажут, где ее найти, только чтобы оно не попало в чужие руки, иначе всем нам придется плохо. За это он получит дорогой перстень.
– Есть у меня один человек, доставляет почту в Александровск, но в дороге всякое может случиться. Бандиты нападут и все, считай, пропало: и письмо, и перстень.
– Попытка не пытка. А если найдет Марусю, то получит еще одно вознаграждение. Обещаю.
– Что же ты, дочка, втягиваешь старика в такие дела, да и у тебя дети малые. Ведь, если что, всем отвечать придется.
– Мы попали в такой круговорот, что, как говорится, пан или пропал. Сегодня рояль вынесли, завтра дом спалят или всех нас на улицу выгонят.
– Так ты надумала этих извергов… того? – догадался старик, так как имя Нефедовой постоянно мелькало в украинских газетах в связи с нападением ее отряда на немцев и вартовых.
– Аникий Дмитриевич, добрая вы душа, не задавайте лишних вопросов, мы же теперь одна семья.
– Во грех ты меня втягиваешь, Елизавета Григорьевна, во грех. И Миколки нет тебя вразумить.
– Елене Ивановне и нашим – ни слова…
– Это уж как водится.
Дорошенко сейчас в городе был весьма востребованный человек. Почта на Украине работала кое-как, роменчане передавали письма с надежными людьми, кто за деньги, кто за продукты или дорогие вещи. Для многих ловкачей это стало прибыльным делом, своего рода коммерцией. Но особо ценную почту доверяли только проверенным «курьерам», и кто мог найти и порекомендовать их, как не почтальон Дорошенко, работавший на своем месте 40 лет и знавший в лицо многих машинистов, проводников, торговцев и торговок, чиновников и служивых людей. Через них передавали и письма, и деньги, и посылки, за что те, конечно, получали от заказчиков неплохое вознаграждение, да и сам Митрич не оставался в накладе.
Был среди них знакомый гончар, часто ездивший в Александровск по торговым делам. За дорогой перстень он охотно согласился взять письмо. Через неделю Митрич сообщил Лизе, что посыльный вернулся. Конверт передан лично в руки адресата.
Теперь Лиза каждый день с нетерпением ждала возвращения Марфы из города, ходившей на базар за покупками или продавать вещи, – какие там новости. Та охотно передавала ей слухи и сплетни, но все было не то, что интересовало Лизу.
И вот Ромны облетело известие – исчезли три городских начальника: Костюк, Устимович и Щербина. Заметили это не сразу. Они и раньше надолго пропадали, уезжая с карательными отрядами в села или проводя где-нибудь дни и ночи в загуле («якшались с бабами», как язвила на этот счет Агриппина). Прошла неделя, вторая, третья. Тут спохватились и их родные, и самое главное немцы, которым те потребовались для новых карательных экспедиций.
Поползли разные слухи. Кто-то вспомнил, что последний раз видел Степана в корчме в компании гайдамаков. Кто-то говорил, что Устимович и Костюк сидели в клубе с двумя красивыми приезжими женщинами. Командир расквартированного в городе полка оберст Нейман утверждал, что последний раз видел всех троих в ресторане с немецкими офицерами, но не из их полка. Он велел провести расследование и объехать с дознанием все соседние села, но троица, как в воду, канула.
Спустя месяц Митрич передал Лизе письмо, полученное из Александровска, как он говорил, по «голубиной почте», то есть через надежных людей. Оно было от Маруси Нефедовой. «Ну, что, подруга, – писала Маруся, – просьбу твою выполнила. Дела разворачиваются так, что скоро всех «гостей» погоним отсюда куда подальше. Нестор был в Москве, видел кое-кого (Лиза догадалась, что Колю), разговаривал с ним и нашел в нем полное взаимопонимание. Они с Волиным задумали в Харькове новое дело. Ждать осталось недолго».
– Откуда письмо? – поинтересовалась Елена Ивановна, видевшая, что Лиза разговаривала в саду с Аникием Дмитриевичем.
– От Маруси Нефедовой, помните, ко мне приезжала художница из Парижа, подарила духи от Шанель? И эта бумага также пахнет. Пишет о своей жизни в Александровске, немцы их там замучили.
– Она, кажется, отрядом командует?
– Об этом молчит: дело все-таки секретное. Еще пишет, что анархист Махно, тот с которым Коля сидел в тюрьме, был в Москве и видел кое-кого. Думаю, что Колю.
– Ты уверена?
– Конечно, иначе бы она указала кого.
– Слава богу, значит, он благополучно добрался до Москвы. С Володюшкой не пропадет.
Дорошенко, конечно, догадался, что исчезновение роменских начальников каким-то образом связано с Лизиным письмом в Александровск. И, когда она хотела передать «курьеру» еще одно вознаграждение за услуги, посоветовал этого не делать.
– Елизавета Григорьевна, – сказал он, – народ нынче догадливый пошел, может сообразить, что к чему, тогда нам с вами не сдобровать.
– Наверное, вы правы, – согласилась Лиза, с благодарностью целуя старика в обе щеки.
– Пуще всего теперь надо опасаться Ганки, – добавил растроганный старик. – Дюже поганая жинка. Будет ходить по городу, вынюхивать у всех, как ищейка.
– Пусть ходит, а много будет знать, туда же отправится.
Митрич покачал головой: что же это с людьми творится, если даже такое милейшее создание, как Лиза, говорит и думает о мести.
И сразу стало спокойней жить. Караул около дома исчез. Немцы, зная, что в их летней кухне и погребах ничего нет, кроме бочек с соленьями, перестали к ним наведываться.
ГЛАВА 4
После встречи с Махно Николай загорелся желанием как можно скорей уехать на Украину. Он постоянно говорил Володе, что невозможно тут жить, не зная, что происходит дома (почта с Украины по-прежнему не приходила). Брат часто посылал через каких-то знакомых письма в Ромны, Екатеринослав и Киев. Дальнейшая их судьба была не известна, ответы не приходили.
В конце августа Володе передали письмо с Курского вокзала. Оно было от мамы, с вложенными в него запиской от Лизы и фотографиями. Узнав об этом, Николай немедленно к нему примчался. Брат заставил его сначала прослушать письмо мамы.
«Дорогие мои сыночки, – писала Елена Ивановна. – Вся душа истосковалась по вам. Пишем вам с Лизой каждую неделю, и не знаем, доходят ли до вас эти письма, поэтому на всякий случай повторяю то, о чем сообщала раньше.
В Ромны приезжал на пять дней Миша. Оказывается, он защитил магистерскую диссертацию и преподает в университете «Теорию государства и права». Был грустный: у них сильно больна чахоткой Ангелина Ивановна. Много гулял в саду, помогал, как мог, с одной рукой по хозяйству. Привез семейный альбом с карточками и большую фотографию Катюши в рамке. На прощанье долго обнимал и целовал всех нас, как будто расставался навсегда.
Ребята в Екатеринославе работают и учатся, – сообщала мама дальше. – Дашиного отца австрийцы убили за то, что он показал им кулак, заодно с ним пристрелили и женщину, присматривавшую за ним. Даша долго не хотела переезжать в родной дом, но все-таки переехали, чтобы не платить лишние деньги за чужую хату. Гриша женился на студентке агрономического техникума Нине Хромченко. Намерен вернуться и работать в Киеве или Харькове. На лето уехали вдвоем в экспедицию куда-то в Тюменскую губернию, место ссылки Александра Меншикова.
Не хотела вас расстраивать, но не могу ни написать. Костюк со своими людьми вывез у нас почти всю мебель, рояль, все картины и много ценных вещей, в том числе и Лизиных родителей. Когда выносили рояль, разобрали часть стены и обратно ее не заделали. На помощь пришли соседи, стену восстановили. В комнатах стало пусто. Особенно жаль рояль бабушки Екатерины Михайловны. Немцы поставили его в свой клуб и барабанят на нем с утра до вечера. Без музыки очень грустно, зато больше читаем вслух. Лиза иногда поет а капелла.
Вскоре после этого злодеяния Костюк и его дружки Устимович и Щербина куда-то пропали. То ли сбежали из города, то ли их убили, до сих пор остается загадкой. Я надеялась, что Ганка вернет все, что Степан у нас забрал, но она ходит злая и, по словам Агриппины, почему-то винит в исчезновении мужа и его друзей нашу семью. Я уж думаю, бог с ним с этим добром, лишь бы нас не трогали.
Живем своими тихими радостями. Ваня Прокопенко усиленно ухаживает за Олесей. Хороший будет муж, но ей сначала надо окончить гимназию и дождаться, когда немцы уйдут, чтобы все родные могли собраться на свадьбу. Да покою видно не бывать. Степан исчез, но много других желающих выслужиться перед властями и зачислить нашу семью в число врагов. Возле нашего дома все время вьются какие-то люди.
Я знаю, что Коля рвется к жене и детям, но ты уж, Володя, его останови, еще не время ему возвращаться в Ромны. Его дочки – нам всем большая радость на старости. Олечка уже встает в кроватке, во всю гугукает и смеется. Вера ходит хвостом за Марфой, помогает ей копать и пропалывать огород, иногда Лиза отпускает ее с ней на базар».
Наконец Николай принялся за Лизино письмо, читая его вслух. Она тоже писала о детях, Костюке, Марусе Нефедовой, которая очень «успешно выполнила одну ее просьбу. «Ты, конечно, догадываешься, какую?»
– Ну, ну, любопытно, что за просьба? – оживился Володя.
– Наверное, попросила Марусю «убрать» из города эту троицу, и та исполнила ее просьбу. А вот подожди, что она пишет о Махно, я о нем тебе как-то рассказывал. Он здесь был, встречался с Лениным и Свердловым. «У Махно, – читал он дальше, – пока он отсутствовал, немцы сожгли дом и расстреляли брата, инвалида войны. Теперь понимаешь его настрой? Он организовал отряд, который стал тут грозной силой. К нему стекается масса людей.
Не дождусь той минуты, когда мы снова будем вместе. У Елены Ивановны опять волнения в связи с мобилизацией в армию Скоропадского. Так что ты пока оставайся в Москве. Завидую Володе, что он рядом с тобой, и вы можете часто видеться. Целую и люблю вас обоих. Большой привет Елене и мальчикам».
– Да-а-а, – задумчиво протянул Володя. – Почему мама решила, что Миша приехал к ним прощаться? Куда они могут уехать, раз больна Ангелина Ивановна? Н-нет, мама зря себе это внушила.
В комнату заглянула Елена.
– Что там пишет мама?
– Разное. Она и Лиза шлют привет тебе и мальчикам.
– Спасибо. Тетя Паша приготовила вам ужин. Будете в столовой или принести сюда?
– Принеси сюда. Сейчас мы немного отметим это дело, – подмигнул Володя брату, когда Елена ушла, и вытащил из ящика квадратную бутылку с коньяком.
Елена сама все принесла, расстелила на углу стола большую накрахмаленную салфетку, налила кофе в чашки. Володя с благодарностью поцеловал ее в щеку. Николай, не знавший о сложных отношениях между супругами, считал их идеальной парой.
– Ну, как ваша организация? – спросил Володя, когда они с удовольствием пропустили по три рюмочки отличного коньяка от очередного пациента «из бывших», спасенного профессором. – Оставили вас в покое?
– Видно, что ты не читаешь газет или читаешь неизвестно что. Большевистские официозы «Правда» и «Известия» регулярно сообщают о «злодеяниях» анархистов и их арестах. Не хотел тебе говорить: за мной и моим соседом Максимовым следят чекисты. Нагло стоят около дома и ходят следом, как шпики при царизме.
– Переезжай ко мне. Здесь за тобой не посмеют следить.
– Их ничто не остановит. Только напугают твоих родных и вахтершу, которая из любви к тебе раскланивается со мной, как с самым важным господином.
– Не господином, а товарищем. Она обожает советскую власть, обеспечившую ее работой и комнатой в подвале нашего дома. А Жмудский-то, помнишь, меня вызывали к нему по поводу камней в почках и желчном пузыре, погиб при мятеже эсеров. Трудно представить, как он с такой полнотой и одышкой участвовал в операции.
– Стал хорошей мишенью. Видишь, ты все-таки в курсе разгрома эсеров. Скоро нас всех изживут. Будут одни большевики со своей муштрой: «Встать!», «Сесть!», «Налево!», «Направо!» Тошно, братец ты мой, тошно, хочется, как Чацкому, бежать отсюда, куда глаза глядят.
– Из Москвы я тебя все равно не отпущу, не могу – мамин приказ.
– Мама все преувеличивает, кому я там нужен? Зато, говорят, гетман не вмешивается в дела партий. В Москве невозможно стало работать.
– А твой Максимов?
– Он надеется восстановить здесь работу, но есть другие товарищи, готовые ехать со мной. Верней собралась группа людей, чтобы осуществить наши планы.
– Все бессмыслица. Планы рухнут. Большевики доберутся и туда.
– Это еще как посмотреть.
– Упрямый, как черт. Был и остался таким. Не забудь сообщить о своем отъезде, а то у тебя все решается в последнюю минуту.
– Это будет не так скоро.
Наконец Николай и Волин приняли твердое решение: ехать в Харьков. Австрийцы уже бежали на родину, немцы пока оставались на Украине, но особенно не вмешивались в ее общественно-партийную жизнь. Сейчас был самый подходящий момент, чтобы возобновить на Украине деятельность анархистов и осуществить давно задуманное ими дело: объединить все анархические течения в одну Конфедерацию анархистских организаций Украины «Набат». Пора покончить со всеми разногласиями, выработать общий план борьбы с врагами революции.
Многие товарищи в Москве поддерживали их намерение. Но были и противники объединения. Григорий Максимов убеждал Николая и Всеволода, что анархисты-коммунисты займут в конфедерации главенствующее место и погубят синдикалистское движение: он твердо верил только в синдикализм и собирался в ближайшее время провести Всероссийскую конференцию анархистов-синдикалистов.
Кто-то, как в прежние времена, упрямо твердил, что анархистам не нужна единая организация, другие, наоборот, приветствовали эту идею, говорили о необходимости создать анархистскую партию, ссылаясь на Кропоткина, когда-то ставившего об этом вопрос. Кто бы там что ни говорил, Волин давно разработал документы к созданию КАУ «Набат» и вез их в своем чемодане.
Аршинов колебался с поездкой, считая, что пока большевики их окончательно не прижали, нужно продолжать работу в Москве. Организовывал лекции, издавал литературу и готовил к выпуску полное собрание сочинений Кропоткина.
Туркин не решался бросить своих родных и в то же время не знал, чем заняться в Москве, где применить свои силы. Махно был прав: погром анархистов его сломил.
В конце октября они выехали в Харьков группой в восемь человек. Провожала их большая компания друзей, обещавших вскоре последовать за ними.
На вокзал приехал Володя с подарками для родных. Отругал за то, что тот так неожиданно собрался, и он не успел ничего толком подготовить, хотя и без того притащил три короба с вещами и продуктами.
– Ты хоть разрешение на выезд из России и въезд на Украину оформил? – спросил он озабоченно.
– Зачем? Эта такая волокита, как-нибудь обойдемся. А ты мне опять тяжестей надавал, ну, как я с ними буду делать пересадку на границе?
– Ничего, вас много, помогут. До Екатеринослава, я знаю, ты потом доберешься, постарайся и к Мише съездить. И мне чаще пиши, авось, хоть одно письмо дойдет.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
ПЕТЛЮРА СБРОСИЛ ГЕТМАНА
ГЛАВА 1
Жестокие дела влекут за собой еще более страшные и непредсказуемые события. Теплым майским утром, когда в Киеве солнце уже припекало по-летнему и все кругом цвело и благоухало, вселяя надежду на тихую, безмятежную жизнь, конец войне и кровавой междоусобице, где-то в районе Подола раздался мощный взрыв. Он был такой силы, что даже на Крещатике во многих домах зазвенели стекла, а кое-где они вылетели вместе с рамами.
Звук повторился еще и еще раз, как будто в той стороне разгорался бой, строчили пулеметы и рвались шрапнели. В небо взметнулся огромный столб пламени с черным дымом, запахло гарью. Думая, что это наступают большевики, а именно такую канонаду устроили пять месяцев назад войска Муравьева, горожане в панике попрятались по домам. Вскоре выяснилось, что это на Лысой Горе взорвался склад с порохом и снарядами, возник сильный пожар.
Днем поползли слухи, что огонь не могут остановить, и он подошел к баллонам с ядовитыми газами. Если они взорвутся, то все жители отравятся и погибнут, как это было на фронте во время химических атак. К счастью, баллоны не взорвались, а, может быть, их там и вовсе не было – у страха глаза велики. Дома вокруг склада продолжали гореть, среди местных жителей было много раненых.
Через несколько дней взрывы и пожары прекратились, небо снова стало бездонно-голубым, улицы ожили, на Крещатике появились крестьянки с тюльпанами и гиацинтами.
Немцы попытались провести расследование и найти виновников диверсии, но так ничего и не добились.
Однако город не знал покоя. 30 июля днем на углу Екатерининской улицы и Липского переулка были убиты фельдмаршал Эйхгорн и его адъютант Дресслер. Сам террорист, бросивший в них бомбу, не пострадал и остался на месте происшествия, чтобы его арестовали. Им оказался левый эсер Борис Донской, в прошлом матрос Балтийского флота. Так эсеры отомстили фельдмаршалу за русских пленных солдат, которых, по приезде на Украину, он посылал усмирять народные бунты, а тех, кто отказывался это делать, — расстреливал и вешал на крестах и виселицах. Также своим поступком Донской хотел поднять украинцев на борьбу с оккупантами.
Смельчака казнили на площади перед Лукьяновской тюрьмой. Его тело с надписью: «Убийца фельдмаршала Эйхгорна» два часа висело на телеграфном столбе, приводя в ужас и без того перепуганных на смерть киевлян.
Не успели люди успокоиться, как появилась новая опасность в лице Симона Петлюры, очередного претендента на украинский «трон». При гетмане он дважды сидел в тюрьме. Во второй раз Скоропадский его выпустил по настоянию немецких социалистов, депутатов Рейхстага, считавших, что тот содержится в заключении только за то, что он – социалист. Гетман взял с Симона «слово чести», что он не будет участвовать в борьбе против него. И напрасно: уже на следующий день тот выехал в Белую Церковь и начал группировать вокруг себя людей, недовольных немцами и самим Скоропадским. Гетман больше не удовлетворял ни землевладельцев, ни офицеров, когда-то поддержавших его в прогрессивных стремлениях и поставивших во власть. Больше всего им возмущались простые крестьяне, у которых он отобрал назад помещичью землю. Решив его свергнуть, все украинские политические партии объединились в Украинский национальный союз, Петлюра стал одним из ее лидеров.
Немцам теперь тоже было не до Скоропадского. В Берлине вспыхнула революция, и Германия подписала соглашение с союзниками о капитуляции. «Друзья и помощники» заспешили домой. Пользуясь этим, Украинский национальный союз избрал Чрезвычайное правительство Директории во главе с Винниченко и Петлюрой. Собрав довольно приличные силы гайдамаков и сечевиков, Симон двинул их на Киев. Там оставался еще гарнизон в три тысячи человек, состоявший из русских юнкеров и офицеров, а также германских частей, не успевших отбыть на родину.
В ночь на 13 декабря начался артиллерийский обстрел города. По мере продвижения петлюровцев к центру на улицах завязывались тяжелые бои. Первый штурм защитники гетмана смогли отразить, но после подхода новых отрядов Петлюры Киев пал, а с ним и Скоропадский, продержавшийся у власти восемь месяцев.
В эту ночь Ангелине Ивановне было совсем плохо: она хрипела и задыхалась, но никто не отважился к ним прийти: ни их семейный доктор Терешкин, ни кто-либо другой из знакомых врачей. Доктор Пантюков, живший когда-то в их доме, исчез вместе со всей семьей и сыном, связавшимся с большевиками. На следующий день Михаил сам привез Терешкина, предложив ему за визит удвоенный гонорар.
Еще летом врачи говорили родным, что больная вряд ли переживет зиму, но благодаря заботе и дорогим лекарствам, которые с трудом удавалось доставать, она держалась. Была надежда, что обстановка на Украине нормализуется, и можно будет на все лето уехать в Крым или на курорт за границу.
Терешкин сделал Ангелине Ивановне уколы со снотворным и лекарством. Кашель успокоился, больная уснула. Доктору предложили остаться на обед, после этого Михаил отвез его обратно.
Как только перестрелка стихла, Мария стала одеваться, чтобы пойти в Софийский собор: поставить свечи и заказать молебен о здравии мамы.
– Машенька, ты куда? – спросил ее убитый горем Петр Григорьевич.
Мария смутилась.
– Догадываюсь, ходишь к отцу Иоанну. Подожди, – он вынул из шкатулки деньги. – Передай ему от меня, скажи, чтобы простил и как следует помолился за нашу маму.
Обливаясь слезами, Мария выбежала за дверь. День был морозный, ясный. Купола Софийского собора, хорошо видные с их улицы, отливали золотом. И она уже отсюда начала читать молитву о здравии и исцелении больных.
Собор был хорошей мишенью для тех, кто входил в город, его обстреливали издалека, не жалея снарядов, на нем была масса разрушений, но он непоколебимо стоял во всем своем величии и красоте.
Служба в эти дни шла по-разному: то через день, то раз в неделю. Отца Иоанна не было. Взяв в лавке свечи, Мария ставила их по кругу у икон, и у каждой горячо молилась. У иконы Святого Пантелеймона опустилась на колени и уже без всякой молитвы, как безумная, повторяла одну и ту же фразу: «Святой Пантелеймон, вылечи нашу маму, вылечи, пожалуйста, мы тебя все слезно об этом просим».
Кто-то тронул за ее плечо. Это был отец Иоанн, за ним стоял папин слуга Андрей. По их лицам Мария поняла: случилось самое страшное – мамы больше нет. Поднявшись с колен, она уткнулась отцу Иоанну в грудь и зарыдала.
– Крепись, дочка, крепись, – сказал протоиерей, обращаясь к ней по-отечески и ласково гладя по голове.
Мария протянула ему пакет с деньгами и передала просьбу отца простить его.
– Бог его простит, – тихо вымолвил тот, возвращая пакет. – В этой жизни ничего даром не проходит, каждый рано или поздно отвечает за свои поступки. Привозите Ангелину Ивановну сюда, я ее отпою и провожу с вами на кладбище.
На следующий день бои в городе продолжались. Женщины остались дома, и мужчины вчетвером: Петр Григорьевич, Сергей Григорьевич, Михаил и слуга тестя Андрей отвезли гроб в собор.
Отец Иоанн не спеша провел отпевание. Собрались выносить гроб, но оказалось, что извозчик с повозкой для гроба и две пролетки, нанятые на целый день и стоявшие здесь с утра, исчезли. Отец Иоанн предложил оставаться всем в соборе, пока не прекратится обстрел. Тронутый участием прежнего соратника, Петр Григорьевич расплакался. Он был совершенно растерян от горя и того, что происходит в городе. Как будто над ним уже сейчас, в этот день и час, свершался Страшный суд за все его прегрешения.
– Да, сын мой, – утешал его протоиерей, растроганный встречей с раскаявшимся бывшим другом и соратником, – потеряли мы Россию, а с ней и Украину, вряд ли здесь теперь восстановится покой.
Михаил отлучился на некоторое время домой предупредить жену, что они вернутся поздно.
Вечером, когда выстрелы несколько стихли, отец Иоанн послал дьячка за двумя извозчиками из прихожан, и те не посмели отказать самому протоиерею. Тот, как и обещал Марии, поехал с ними на кладбище.
Страшная это была картина, когда при свете самодельного факела косматые мужики-могильщики опускали гроб в яму. Громко стучали падающие вниз комья земли, метались тени деревьев, кричали и хлопали крыльями перепуганные спросонья птицы.
В отель на поминки по усопшей отец Иоанн отказался ехать. Он заметил, что Сергей Григорьевич, в отличие от старшего Рекашева, держится высокомерно и терпит присутствие протоиерея только ради такого скорбного случая.
Через четыре дня бои кончились. Симон Петлюра второй раз торжественно вошел в Киев со своим войском – гайдамаками, с длинными чубами на бритых головах и в разноцветных жупанах. «Что это за шуты гороховые к нам пожаловали, – смеялись в толпе, – мы их уже однажды бачили, откуда они опять повылазили?»
Как и каждая предыдущая власть, Директория начала свое правление с поборов, грабежей, расправы с неугодными лицами и погромов. И еще – с восстановления украинской старины. Вышел приказ об уничтожении в городе всех русских вывесок и замене их на украинские. В витринах магазинов появились плакаты с длинноусыми батьками в национальной одежде, державшими в руках жирных гусей и поросят. «Так тепер будуть жити всі українці. Це вам обіцяє сам Симон Петлюра», – гласила под ними подпись.
Такие же батьки в распахнутых кожухах, под которыми виднелись вышитые рубашки (вышиванки), в шароварах и оботах расхаживали по улицам, строго следя за тем, чтобы все вокруг говорили, только на рiдней мове. Стоило кому-нибудь, забывшись, произнести слово по-русски, как на него обрушивалась нагайка гайдамака. Особенно доставалось евреям и русским буржуям, приехавшим из совдепии и жившим при гетмане весьма вольготно.
Поборы с евреев быстро перешли в погромы, распространившиеся по всему городу и его окраинам. Никогда еще не было такого зверского издевательства над этим народом, как при правлении Петлюры. Бесчинствовали и гайдамаки, и всевозможные банды, делавшие набеги на город при каждой новой власти. На улицы страшно было выходить. Днем и ночью там слышались крики и выстрелы, а утром находили обезглавленные и изуродованные трупы.
В одну из таких ночей во сне умерла нянюшка Рекашевых – Евдокия Христофоровна. Для всех членов семьи она была родным и близким человеком. Снова отвезли гроб в Софийский собор. Отец Иоанн, хорошо знавший эту благочинную прихожанку, отпел ее и проводил вместе с родными на кладбище. На этот раз младший Рекашев и там, и там отсутствовал, сказавшись больным, и, действительно, какое ему было дело до чужой няни.
Дела Сергея Григорьевича шли в гору. Когда-то он был в хороших отношениях с Петлюрой, занимаясь вместе с ним украинизацией полков в российской армии, а затем созданием армии на Украине. Придя к власти, Петлюра вспомнил о нем и порекомендовал новому премьеру Владимиру Моисеевичу Чеховскому поручить ему какой-нибудь ответственный комитет при военном министерстве. Теперь Сергей Григорьевич не расставался с родовой саблей, постоянно нося ее на боку, как носил, наверное, их далекий предок, полтавский сотник Василий Забудько. Старший брат не одобрял его связь с Петлюрой, помня амбициозные выступления того при Грушевском и том же Винниченко.
– Сережа, – внушал он ему, – неужели ты не понимаешь, что Петлюра – самый слабый политик из всех, кого мы имели за последнее время на Украине? Дай бог, если он продержится три месяца. На нас наступают Красная Армия и Деникин, они в два счета его разобьют. Что ты тогда будешь делать?
– Нам с тобой вместе надо думать, что делать, – неожиданно заявил тот. – Ты сам еще недавно предлагал бежать в Европу. И чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше, пока в Крыму находятся войска союзников.
Петр Григорьевич молчал. Теперь, когда здесь появилась могила его жены, ему не хотелось покидать Киев, но надо было думать не о себе, а о членах своей семьи.
– Петя, – задался вопросом младший брат, еще больше удивив Петра Григорьевича, – я все думаю, почему на Украине такое творится? Ведь так хорошо все начиналось, были великие планы, люди, настроенные патриотично. Всего-то и нужно было: жить, как мы хотим, ни от кого не завися.
– Сами наделали полно глупостей, теперь ищем виновных.
– Ты имеешь в виду немцев?
– И их тоже. Знаешь, как в детской сказке: посадил дед репку, выросла она большая. Тянет дед, потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Тянут вдвоем, потянут, вытянуть не могут и т. д., пока не прибежала самая маленькая – мышка. Так и у нас, на Украине. Все тянут, потянут ее, а вытянуть к новой жизни никак не могут, забыли про мышку. А мышка-то это – народ, о котором никто не заботится, хотя и прикрывается его именем. Меня после смерти Лины бессонница одолевает. Вот я от нечего делать и размышляю по ночам о том, о сем. Мы в своем «Союзе русского народа» меньше всего думали о народе и больше всего его мучили. То же самое делают все нынешние властители. Симон люто ненавидит и большевиков, и евреев, и крестьян. Вся деревня от него стонет и поддерживает атаманов-разбойничков. И Добровольческая армия со своей контрразведкой хочет вернуть прежние порядки для того, чтобы опять мучить народ, нашу несчастную, маленькую мышку. Про большевиков и вспоминать нечего.
– По-моему, ты впал в нездоровую сентиментальность. Твоя несчастная мышка под названием народ устроила вторую революцию и давно вытащила репку. Только ей этой репки мало. Она съела и бабку, и дедку, и внучку с Жучкой, и нас с тобой съест, если мы вовремя отсюда не сбежим. Пока я при делах у Петлюры, могу для всех нас подготовить документы и вывезти в Крым. Надо бежать отсюда без оглядки, а, когда все уляжется, можем вернуться назад.
– Как мне Михаила Ильича еще уговорить?
– Поставь перед ним вопрос ребром: или едет с нами, или пусть остается один?
– Маша его не бросит. И Катя захочет остаться, а я без них не поеду.
– Я сам с Машей поговорю и напущу на нее жену и дочь.
После смерти Ангелины Ивановны Петр Григорьевич стал часто посещать Софийский собор: выстаивал службу, затем они с протоиереем Иоанном поднимались наверх и пили чай, когда молча, а когда вступая в философские беседы.
На сорок дней Ангелины Ивановны Рекашев заказал большую панихиду по усопшей, надеясь отстоять ее вместе с Марией и Катей, но в эти дни Киев опять переживал наступление новых войск – теперь уже большевиков, двигавшихся со стороны Броваров и Дарницы. Несколько суток подряд канонада не утихала ни днем, ни ночью.
Вечером Петр Григорьевич один пробрался к Софийскому собору. Протоиерей Иоанн, не зная, когда они придут и придут ли вообще, когда такое творится в городе, час назад отслужил заупокойную панихиду по Ангелине Ивановне, и сейчас один наверху чаевничал.
– Присаживайтесь, сын мой, – сказал он, сгребая со стола крошки хлеба и аккуратно отправляя их в рот. – Сейчас мы с вами выпьем что-нибудь покрепче за упокой Ангелины Ивановны. Тут одни господа-офицеры еще при гетмане оставили мне в благодарность за службу целый ящик «Смирновской» водки. Иван (дьячок) обменивает ее на рынке на хлеб и колбасу, людей кормим.
– Я тоже тут кое-что принес.
– Можете забрать домой или оставить на благое дело.
Не чокаясь, выпили водочки, очень хорошей, такой, что была когда-то до войны.
– Ванюша, – крикнул протоиерей молодому дьячку, – будь любезен, принеси чашку для Петра Григорьевича.
Отец Иоанн, видимо, до него успел пропустить не одну рюмочку, был оживлен и расположен к разговору. Подождав, когда Иван поставит перед Рекашевым чашку и нальет туда заварку и кипяток из самовара, продолжил свой рассказ об офицерах.
– Так вот эти господа решили пробираться к Деникину на Дон. Был среди них заместитель вашего брата по кадетскому корпусу Черепанов Михаил Васильевич, тоже когда-то пребывал вместе с нами в «Союзе русского народа». Вы должны помнить его, высокий такой, крепкий, с крупным лицом. К самостийности Украины и ее украинизации относился отрицательно, хотя родился в Киеве и всю жизнь прожил здесь. Мы, говорил, непременно отвоюем у большевиков Россию и восстановим монархию. И Украину к ней присоединим. Я ему говорю: «Украина теперь другая. Ее просто так не возьмешь, только кровью». А он мне: «Надо будет и кровью зальем». Слово в слово, как пишут большевики в своих листовках.
Помолчав и не получив ответа от Рекашева, продолжал.
– Вот и мы с вами когда-то провозгласили борьбу с евреями. Прочно она застряла в умах людей, раз они до сих пор кричат: «Бей жидов, спасай Россию!»
– Мало били. И не добили. В правительстве у Ленина одни евреи, да и здесь их засилье – Гамарник, Горвиц, Крейсберг. Теперь они нам мстят. Троцкий-Бронштейн – сам сатана.
– В России началось гонение на церковь. В храмах изымают иконы и церковную утварь, священников арестовывают и расстреливают. Да и у нас они натворили невесть что… Митрополита Владимира растерзали, как собаку. Царство ему небесное, – он медленно и размашисто перекрестился, – и монахи-Иуды к тому злодеянию руку приложили, нашептали большевикам, что он золото прячет.
– Говорят, Муравьев после пребывания на Украине устроил где-то мятеж, большевики объявили его врагом народа и убили.
– Неуправляемый был человек, опасный для общества. Да и Петлюра, что тут вытворяет? Опять тюрьмы переполнены, кругом ложь, предательство, обман, сосед боится соседа, слуги выдают своих хозяев. А еще разврат, похоть, блуд. Вот во что превратили землю русскую.
Отец Иоанн взял со стола толстую книгу в старинном кожаном переплете, потертом по краям.
– Перечитал тут толкования пророчеств из Священного писания священномученика Ипполита. До чего в нем все точно сказано о нашем времени, особенно об этих нехристях.
В книге лежала закладка. Открыв ее в том месте, он стал медленно читать: «Все будут поступать по своей собственной воле, и дети наложат руки на родителей; жена предаст своего мужа на смерть, а муж приведёт жену свою, как виновную, в судилище; господа по отношению к своим слугам будут бесчеловечными деспотами, а слуги по отношению к господам будут питать дух неповиновения; никто не будет чувствовать уважения к седине старца, а красоту юношескую никто не будет жалеть. Храмы Божие будут обращены в обыкновенные дома и повсюду последует разрушение церквей; Писания будут в пренебрежении, а песни врага всюду распеваться. Блудодеяния, прелюбодеяния и клятвопреступления наполнят землю, и чародейства, волшебства и прорицания быстро и усиленно последуют вслед за ними. Вообще со стороны тех, которые будут только казаться христианами, будут воздвигнуты лжепророки, лжеапостолы, колдуны, губители, злодеи, обманывающие друг друга, прелюбодеи, блудники, хищники, корыстолюбцы, клятвопреступники, клеветники, ненавидящие друг друга. Пастыри будут как волки; священники будут любить ложь; монахи будут иметь пристрастие к мирскому; богачи проникнутся духом, чуждым милосердия; начальники не будут оказывать помощи нищему; сильные удалят от себя щедрость; судьи лишат праведного правды и, ослепляемые дарами, будут склоняться на сторону несправедливости».
Закончив чтение, протоиерей посмотрел на Рекашева. Тот сидел с потухшим, окаменевшим лицом.
– Да, мой друг, – промолвил отец Иоанн с горечью, – к этому нечего добавить.
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
МАХНО ПОДНИМАЕТ НАРОД
ГЛАВА 1
Пока анархисты раздумывали, как себя вести после разгрома и работать в новых условиях, другая мощная партия в России, эсеры, начала решительное наступление на большевиков, действуя так же, как в царские времена, – устраняя видных советских деятелей. Ими были убиты член президиума ВЦИК и Петроградского комитета РСДРП(б) Моисей Володарский, глава Петроградской Чека Моисей Урицкий, отличавшийся особой жестокостью к арестованным. В Москве террористка Каплан совершила покушение на самого Ленина. Затем, желая спровоцировать войну с Германией, эсеры убили германского посла графа Мирбаха. Убийство посла стало сигналом для начала левоэсеровского мятежа в столице, за которым последовали антисоветские выступления на Восточном фронте и вооруженные столкновения в Петрограде и других городах.
Указания ЦК партии левых эсеров открыто ориентировали ее рядовых членов на подготовку и проведение террористических актов, восстаний в деревнях и частях Красной Армии. Особую надежду они возлагали на крестьян. Но те уже сами начали повсюду действовать. Не желая терпеть непопулярные меры в виде продналогов, национализации земли и передачи ее крестьянским коммунам, а больше всего – произвол ЧК и красноармейцев, жители сел и деревень поднимали восстания и создавали партизанские отряды для борьбы с советской властью. В центральной России не было ни одной губернии, где бы ни полыхали костры антибольшевистских выступлений. Фактически началась открытая война деревни с городом.
По мере распространения продразверстки поднялась и вся Украина. Там еще во время немецкой оккупации и гетманщины образовалось множество партизанских отрядов. Ни тогда и ни сейчас, когда объявились новые враги в лице большевиков, белой армии и Директории, свободолюбивые потомки запорожских казаков не хотели мириться с теми, кто отнимал у них хлеб и покушался на их свободу. По бескрайним просторам степей гуляли десятки, а то и сотни боевых отрядов, возглавляемых народными атаманами.
Однако частая смена власти, разгульная жизнь, легкая нажива при налетах на города, еврейские поселения и немецкие колонии постепенно привели к тому, что многие из них утратили свою первоначальную революционную сущность, предали интересы народа. Кое-кто из них успел послужить и Украинской Раде, и Директории, и Добровольческой армии (Илья Струк даже получил от Деникина чин полковника), и большевикам. И только анархист Нестор Махно, объединивший к тому времени вокруг себя десятки разрозненных партизанских отрядов и отколовшихся от других армий воинских частей, смог перевести народно-освободительную борьбу в организованное революционное движение со своей идеологией и планом строительства общественно-экономической жизни в освобождаемых им районах.
Сначала его имя редко мелькало в новостных сообщениях. Потом ему стали уделять все больше внимания, признавая его Повстанческую армию самой грозной силой в борьбе с немецко-австрийскими войсками и гетманом, а затем с Петлюрой и Деникиным. Сам Махно не уставал повторять на митингах и в воззваниях, что повстанцы стремятся освободить Украину от всей этой контрреволюционной нечисти, установить на ее территории единственно справедливый анархический строй. «Мы победим, – убеждал он людей, – но не для того, чтобы следовать примеру прошлых лет и вручать нашу судьбу какому-то новому хозяину, а для того, чтобы взять ее в свои руки и строить наши жизни по своему собственному разумению и пониманию правды».
На освобождаемых от врагов территориях создавались вольные трудовые советы крестьянских и рабочих депутатов – органы самоуправления, независимые от какой-либо центральной власти и партийных организаций. Люди получали свободу, землю и возможность самим распоряжаться и управлять хозяйством так, как они считали нужным. Ни одна политическая партия не находила у них поддержки, а их агитаторы со своими программами встречались враждебно. Такая же участь постигла и советскую власть. Народ игнорировал ее государственные органы, разгонял комбеды, чрезвычайные комиссии и продотряды. В Гуляй-Поле власть не решилась организовать ни одного советского учреждения. В других местах такие попытки приводили к кровавым столкновениям. Повсюду эта чуждая рабочим и крестьянам власть терпела крах.
В военном отношении Повстанческая армия тоже была необычной. Махно сам изобрел тактику, позволявшую простым мужикам одерживать победу над превосходящими силами противника. Верхом и на пулеметных тачанках (легких рессорных экипажах с установленными на них пулеметами: это тоже было изобретение Нестора) его бойцы стремительно передвигались из одного района в другой, вселяя врагам ужас и страх. Крестьяне сообщали им обо всех передвижениях противника, давали продукты и свежих лошадей. Благодаря этому махновцы могли преодолевать по сто верст в сутки, оставаясь неуловимыми.
Если же враг оказывался сильней, и бойцы попадали в безвыходное положение, они закапывали в тайниках оружие и расходились по домам, принимаясь за повседневные хозяйские работы и ожидая очередного сигнала из штаба, чтобы собрать свои ружья и пулеметы и снова вступить в бой. Несомненно, их успехи зависели и от исключительных личных достоинств Махно. Этот дерзкий когда-то и темпераментный анархист оказался талантливым командиром, сочетавшим железную волю с необыкновенной храбростью и убеждённостью в правоте своего дела.
Помня встречу с Махно в Кремле, Ленин с интересом следил за его успехами на Украине, мечтая о ее освобождении не меньше, чем сам Нестор, ибо там были хлеб, мясо, сахар и главное – уголь. «В простом мужике заложены великие силы, – говорил он своим соратникам, довольно потирая руки. – Махно и Григорьев (руководитель еще одной крупной армии, одно время поддерживавший большевиков) помогут нам установить на Украине советскую власть».
Однако военком Троцкий доказывал Ленину, что Махно со своими анархическими взглядами и стремлением установить на освобождаемой им территории анархический строй представляет немалую, если не бо́льшую, угрозу советской власти, чем другие ее враги. Лев Давыдович ненавидел и не понимал крестьянство, называл его несознательным буржуазным классом, настаивал на применении к нему самых жестких мер. Владимир Ильич тоже видел эту опасность, но, учитывая тяжелую экономическую обстановку в стране, был более осторожен в своих оценках крестьянских вожаков.
– Пока идет гражданская война, и он и Григорьев бьют наших врагов, – убеждал он Троцкого, – мы должны их всячески поддерживать. Благодаря им наши войска в оккупированных областях встречают как освободителей. Потом можно изменить свою политику, но делать это очень осторожно. Для поощрения надо обоих наградить орденами Красного знамени. Это притупит их бдительность. Помните, что нам нужен украинский хлеб и уголь, без них революция погибнет.
ГЛАВА 2
Поезд медленно полз по степи, вырывая из темноты то будку стрелочника, то застывшую на переезде телегу с лошадью и задремавшим возницей, то белую хату и вокруг нее плетень с навешанными на него пузатыми глиняными горшками и кастрюлями. Милый сердцу сельский пейзаж, который не способны изменить никакие политические потрясения. Такой плетень и глиняные горшки встретишь в каждом украинском дворе, сразу вспомнишь мать, самого себя в детстве, братьев, когда они после обеда дружно чистили до блеска такие же горшки и кастрюли и вешали их на колья старого забора. «Это и есть частица твоей родины и тебя самого», – умилялся Николай Даниленко, смотря в окно и уносясь в приятные воспоминания.
Через каждые полчаса поезд останавливался, надолго замирая, хотя не было ни встречных составов, ни следовавшего за ними курьерского поезда, чтобы уступить ему дорогу. Любую непредвиденную остановку пассажиры связывали с налетом местных бандитов. Больше всего почему-то боялись махновцев, говоря, что они на месте расстреливают непонравившихся им людей или увозят их в неизвестном направлении. Тут сидевший напротив Николая крестьянин заявил, что никто не имеет право наводить «напраслину» на Махно, который никогда не обижает простых людей и не позволяет это делать другим.
– А ты, почем знаешь? – накинулась на него соседка, дважды подвергавшаяся нападениям бандитов и теперь дрожавшая от страха, когда поезд останавливался, и наступала непривычная тишина.
– Знаю, так как сам с ним знаком, а сейчас еду к нему в Гуляй-поле на II съезд Советов.
– Вы едете на съезд, – оживился Николай. – Я тоже туда еду. Вы откуда будете?
– Из села Василёвка, что под Харьковом. Слыхали о таком?
– Нет, не слышал.
– Величать-то тебя как?
– Николай Даниленко, из «Набата».
– А меня – Федосий Середа.
– Я, граждане-товарищи, о Махно знаю не понаслышке, – пояснил Федосий, польщенный всеобщим вниманием. – Помните весну, когда к нам пришли немцы? Все говорили: цивилизованная нация, культурный народ, а они самые настоящие бандиты, похлеще Круга или Зеленого. Грабили нас каженный день, не оставили даже зерна для будущего посева.
– Ты, давай ближе к делу, – не выдержал один из слушателей. – Про немцев мы и сами знаем, они и у нас грабили, и насильничали. Так если бы они одни, а то и большевики этим занимались, и григорьевцы, и петлюровцы…Им всем жрать подавай, а нам с голоду пухни. Думают, деревня резиновая…
– Так и я о том же, – охотно согласился Федосий. К столу была прикреплена плошка со свечой, пламя от нее освещало его худую фигуру, бледное лицо, реденькую рыжую бородку. – Только вы все терпели, а мы собрались с мужиками и перебили варту и немецкую охрану. Тут, знамо дело, нагнали карателей. Те уж поиздевались над нами вволю, село подожгли, всех, кто не успел разбежаться, поубивали. Махно в это время находился в наших местах. Приехал со своими командирами, денег дал, бойцов выделил, чтобы тем, у кого детей поболе, времянки поставили.
– Тю, – разочарованно протянул его сосед справа, косоватый мужик в засаленном овчинном тулупе. – Я думал, ты к нему в армию подался.
– Конечно, подался, только меня быстро ранили в левое колено. Нога теперь не сгибается, замучила окаянная, – он вытянул вперед свою больную ногу и слегка погладил. – В партизанах у нас все мужики. Так теперь на нас большевики давят. Новое украинское правительство с энтим, как его главным у них …
– Христианом Раковским, – подсказал Николай.
– Да, чтоб ему не ладно было, Раковским, решили отобрать у нас помещичью землю и отдать ее новому хозяину — уездному земотделу. Что ж это выходит? То сами призывали взять землю у помещика, теперь в приказном порядке отбирают ее, да еще в свои коммуны и совхозы загоняют. Нет, такая продажная власть нам не нужна.
– То были большевики, а теперь пришли коммуняки, хотят своими чрезвычайками уничтожить все крестьянство, – пояснил со знанием дела косоватый мужик.
– Кто же свою землю отдаст обратно? Наши мужики тоже ее не отдадут, – произнес чей-то простуженный голос в проходе и закашлял.
– У вас ее силой отберут.
– На-ка, выкуси, так мы ее и отдали. Костьми ляжем, а свое родное не отдадим.
– Не отдадим, – поддакнули несколько человек.
– Так вот, товарищ Даниленко, – невозмутимо продолжал Середа, возвращаясь к своему рассказу. – Командируя меня на съезд, наши крестьяне просили узнать у делегатов и самого товарища Махно, что нам теперь делать. Мы не хотим входить в ихние коммуны и гнуть на них спины. «Если съезд даст на эти коммуны добро, – сказали они мне, – лучше не возвращайся обратно: набьем тебе морду».
– Так и сказали? – улыбнулся Николай.
– Именно так. И набьют. Народ у нас крутой.
– А сами, без помощи других решить не можете?
– Дело больно серьезное. Махно лучше видать.
– Большевики возьмут полную власть и загонят вас в коммуны силой, – гудит в проходе прежний голос (из-за плохого освещения Николай не мог рассмотреть его лица). – Сам Ленин дает такие указания Раковскому.
– Ишь, ты, какой умный. Ну, нет, крестьяне этого не допустят. Знаем мы эти коммуны: половину отдай туда, половину сюда, а тебе от жилетки рукава. Да еще нагло заявляют, что для общего блага.
– Обращайтесь с нами по-человечески, дайте нам все, что нужно: мануфактуру, обувь, сеялки, плуги и берите себе взамен, что вам нужно. Зачем же силу применять? Мы вам сами хлеб отдадим.
– Видать, еще не приходили до вас продотряды, они вам дадут мануфактуру – свинец в лоб.
– … или красного петуха.
– Я буду работать, а другой — лежать, и из одного котла со мной исти! Хай вони здохнуть зі своєю коммуной!
– Кажуть, що власть народу, а сами выбырають партийных и прысылають в волости незнайомих людей на должности.
Федосий пересел ближе к проходу. Его монотонный голос, в конце концов, усыпил Николая. Проснулся он от тишины. Весь народ куда-то исчез. Федосий спал наверху, откуда раздавался его могучий храп. Поезд стоял на крупной, хорошо освещенной станции. Неужели Екатеринослав? Прижавшись лицом к стеклу, он увидел знакомое здание вокзала. Здесь к нему могли присоединиться Волин, Барон и Яков Алый, выступавшие сейчас в городе с лекциями. Сам он собирался побывать у братьев на обратном пути.
Открыв окно, Николай высунул голову, чтобы подышать свежим воздухом, и остолбенел: у входа в вагон стояла группа людей в кожаных куртках и фуражках. Чекисты! В коридоре послышался возмущенный голос Барона.
– Ну, погодите, сволочи, вы у меня еще попляшете. Всех к черту перестреляю.
Выглянув в коридор, Николай увидел всех троих анархистов.
– Друзья, – позвал он, – идите сюда.
Барон никак не мог успокоиться, встряхивал головой, как будто его кто-то дергал за веревку. Сева, наоборот, ничего не мог сказать, он где-то простудился и потерял голос. Но и так было ясно: большевики им чем-то сильно досадили.
– Что случилось? Выкладывайте, – сказал Николай, когда поезд тронулся, и перрон с чекистами остался позади.
– ЧК запретила нам выступать, – сказал Барон, все еще встряхивая головой от возбуждения. – Лекции анархистов и эсеров у них объявлены «антисоветскими». Еще до нашего приезда они арестовали 50 человек: наших и эсеров. Мы пошли разбираться в городской Совет и получили от ворот поворот.
– Знакомая история, действуют, как в Москве.
– На следующий день, я отправился в Нижнеднепровск, а Сева и Яков – в Каменку. Надеялись там выступить. Тоже ничего не вышло.
– ЧК все время за нами следила, вечером мы вернулись в Екатеринослав; ночью нас арестовали в гостинице и отправили в тюрьму.
– Произвол, самый настоящий произвол, – вмешался в их разговор Федосий Середа, свесив вниз рыжую бороду.
– Ты кто такой? – уставился на него Арон, готовый сейчас растерзать любого, кто попадется под руку.
– Это наш человек, – успокоил его Николай, – едет на съезд. А дальше что было?
– Из федерации позвонили какой-то партийной гранд-даме, нас освободили и привезли на этот поезд.
– Дама – Нина Трофимова?
– Она, кремень-баба, – кивнул головой Алый. – Там и твой брат Сергей заправляет. Тоже неприятный тип. Только ты, Коля, не обижайся. Говорю, как есть. Терпеть нас не может.
– К сожалению, это так, – согласился Николай.
– Мы с Севой и Яковом решили после съезда остаться у Махно, все равно большевики работать не дадут. А ты, как?
Николай растерялся. Он знал о желании Барона и Волина перебраться к Махно, они об этом говорили давно. Исполком «Набата» тоже подумывал о том, чтобы слить свою деятельность с партизанским движением (свои надежды он одно время связывал и с другой армией – Григорьева), но большая работа велась и на предприятиях, бросать ее Николай не собирался.
– Нет, – сказал он удрученно, так как ему не хотелось расставаться с друзьями, – я пока останусь в Харькове. Будь что будет.
– Тогда поможешь Фанни выехать в Гуляй-поле, – обрадовался Арон.
Поезд опять остановился и надолго застыл посреди голой степи. Выговорившись, друзья успокоились и, примостившись, кто куда мог, заснули. Николай уже выспался и думал о словах Якова, сказанных о Сергее. Брат за последнее время сильно изменился, стал раздражительным, злым. Когда Николай первый раз появился в Екатеринославе после возвращения из Москвы, встретил его неприветливо. Даша в этот момент возилась с детьми в комнате, они одни сидели на кухне.
– Ну, что, – грубо спросил он, – вас из России выгнали, теперь вы сюда приехали мутить народ?
– Не говори глупостей, – разозлился Николай не столько на слова Сергея, сколько на его тон. – Нас предали, расстреляли, обозвали контрреволюционерами, хотя анархисты, как тебе хорошо известно, и тут, и в России, принимали самое активное участие в революции и до сих пор пользуются у рабочих большим уважением.
– Анархисты плодят бандитов и грабителей. Махно ничем не отличается от других атаманов-самозванцев.
– Если он самозванец, то зачем ваш Ревком позвал его на помощь, когда Петлюра занял Екатеринослав?
– Позвали потому, что в то время не знали, что он из себя представляет. Его отряды в городе занимались мародерством и насилием, а затем сбежали, снова сдав город петлюровцам.
– Я слышал другое. Ревком объявил себя единственной властью и начал организацию учреждений, не допуская туда представителей Махно и других партий. Эсеры потребовали создать новый Ревком. Вы желаете властвовать одни, не понимая, что народ хочет видеть во власти людей, которым доверяет, а не тех, кто навязывает им свою волю силой. Ты же не можешь не понимать опасность для крестьян декретов о продотрядах и загранотрядах?
– Почему же? Они вполне оправданы: иначе не накормить город и не остановить спекулянтов. Я читал твои статьи о рабочем контроле на российских заводах. Это вредные идеи, они мешают партии восстанавливать промышленность. Мы идем вперед, а вы нас упорно тянете в никуда.
– Что-то не видно, чтобы вы шли вперед. Общее положение Екатеринослава и губернии печально. Заводы стоят. Люди сидят без зарплаты, всем недовольны.
– Это вы своими выступлениями сеете недовольство. На Украине вам не позволят проводить агитацию, ваши федерации скоро разгонят.
Николай был ошарашен его злостью. Сергей ненавидел анархистов, а вместе с ними и его, родного брата, столько сделавшего для него во время его скитаний по петербургским предместьям. Что с ним случилось? Чужой человек, если не сказать хуже, – враг.
Николай быстро с ним распрощался и, не отвечая на вопросы Даши, выскочившей из соседней комнаты, захлопнул дверь. С тех пор, бывая в Екатеринославе, он ни разу с ним не общался, передавал деньги и подарки от себя и родных через младших братьев.
В Гуляй-Поле их встретил «набатовец» Марк Черняк. Все уселись в повозку. Бородатый возница Федор в овчинном тулупе, подпоясанном широким кушаком, как заправский городской кучер, весело покрикивал на лошадь, легко бежавшую по ровной шоссейной дороге (село находилось от станции в семи верстах). По краям ее тянулись окопы, заваленные соломой, – остатки сражений махновцев с немцами.
Въехали на центральную улицу. Здесь, как в любом большом селе, были двухэтажные каменные дома, магазины, парикмахерская, кинематограф, красное здание гимназии, из-за крыш виднелись купола церкви. Стороной объехали шумевший базар. Вполне мирная, провинциальная жизнь, если бы не наличие большого количества вооруженных людей, напоминавших о том, что здесь находится штаб большой армии. Бойцы увешаны пулеметными лентами, при саблях и пистолетах. Одеты, кто во что горазд: немецкие и австрийские шинели, овчинные полушубки, волчьи шубы, на головах – фуражки, кубанки, папахи, каракулевые пирожки.
Съезд открывался в три часа дня в здании Совета депутатов. Делегатов было много, почти 250 человек. В качестве гостей пригласили большевиков и матросов из Одессы и Севастополя. Последние выделялись своей формой, но больше всего самодовольным выражением лиц – все моряки считали себя главными участниками октябрьских событий 17-го года. Около подъезда духовой оркестр играл «Марсельезу» и военные марши. Махновские командиры, прибывшие с фронта, встречали людей на крыльце, пожимали руки, говорили приветливые слова. Махно еще не было. Его ждали с минуту на минуту.
В вестибюле Николая окликнула Маруся Нефедова. Вот кого он не ожидал здесь увидеть. Из газет он знал, что недавно в Москве над ней проходил суд Революционного трибунала. Ее обвиняли в дискредитации советской власти, неисполнении приказов, незаконных реквизициях и грабежах. Это был уже второй суд над ней. В прошлый раз ее обвинили в грабежах и насилии, собирались даже расстрелять, но, благодаря заступничеству Антонова-Овсеенко и Дыбенко, знавших ее как боевого, отважного командира, оправдали и сняли все обвинения. Теперь обвинения были намного серьезней: Маруся подняла голос на самих большевиков.
– Тебя оправдали? – спросил он, радостно обнимая ее и рассматривая ее одежду: она была в черном мужском пиджаке, поддевке и шароварах, на голове красовалась высокая каракулевая шапка-папаха.
– Черта с два. Обвинения в реквизициях и грабежах сняли. Все остальное оставили в силе и запретили полгода занимать командные должности. Хожу у Махно в заведующих детскими учреждениями.
– Неужели это правда, что пишут о тебе в газетах? Ты и – ограбление магазинов с убийствами?.
– Все это ложь большевиков. Связалась с ними, а они требуют полного подчинения, вот я и взбунтовалась. Хотя, конечно, случаются и грабежи, и убийства. Это же война. Попробуй, удержи ребят, когда они после боя входят в большое село или город. К тому же и есть хочется. За красивые глаза тебя никто не накормит.
– Спасибо, что откликнулась на Лизину просьбу.
– Это ты насчет тех дружков, которых мои ребята убрали?
– Они унесли из дома все ценные вещи, рояль, твою акварель…
– Можно вернуть, только скажите.
– Все равно растащат, не эти, так другие, а нас еще больше возненавидят.
Заседание начали без Махно. Он появился в президиуме, когда кончили обсуждать повестку дня. Незаметно войдя из боковой двери, присел у края стола. В зале его заметили и бурно захлопали. Нестор нахмурился и, продолжая сидеть, поднял руку; видно было, что такие овации ему не по душе. Кто-то предложил передать ему председательство, но он отказался, сославшись на то, что нужно постоянно держать связь с фронтом и выходить в коридор. Вести заседание продолжал Борис Веретельников.
После московской встречи Николай видел Махно в третий раз и удивился, насколько он изменился с тех пор. От того пьяного фанфаронства не осталось и следа. Мало того, что Нестор сумел поднять чуть ли не пол-Украины на борьбу с немцами, гетманом, а теперь и Деникиным, он твердо придерживался анархистских взглядов, никто и ничто не могло их изменить.
… Обсуждали текущий момент. Веретельников как основной докладчик рассказал, что недавно ездил в Россию с надеждой «найти там свободу и духовный простор», а нашел лишь полный разгул угнетения, тяжелой зависимости рабочих и крестьян от начальства свыше. Теперь и на Украине партийная бюрократия, этот вновь вернувшийся на шею народа привилегированный класс издевается над крестьянами, узурпирует права рабочих, не дает никому свободно дышать. Прежняя деспотия власти как была, так и осталась.
В том же духе прозвучали и остальные выступления. Махновцам было обидно, что в конце января, исходя из общих интересов борьбы с Петлюрой и Деникиным, они заключили союз с советской властью. Надеялись получить от командования помощь в виде одежды, оружия, боеприпасов, но так ничего и не дождались.
Махно тоже выступил с большой речью. Осветил положение на Украине, поругал большевиков, но сказал, что, пока они борются с буржуазией и теми, кто ее защищает, они должны поддерживать новую власть. Каждое его слово люди впитывали в себя, как воздух.
– Как же практически должны поступить мы, революционные повстанцы, – горячо говорил он, – чтобы наша борьба принесла нам желанные плоды, настоящую свободу и подлинное равенство? Выступать ли против существующей власти в целях ее свержения и установления другой, «лучшей», как говорят меньшевики и левые эсеры? Нет и нет! Всякое свержение власти сейчас вызовет к жизни другую власть, не лучшую, а скорее худшую. Не в замене одной власти другою найдет народ свое избавление от позора рабства и гнета капитала, но лишь в устройстве жизни, при которой вся полнота власти находится у самого трудового народа и ни в какой степени не передается какому бы то ни было органу или политической партии…
Неожиданно глаза его вспыхнули, и он резко взмахнул правой рукой, как будто рассек саблей невидимого для всех врага или ударил его нагайкой.
– Здесь много говорилось о преступных действиях большевиков на Украине. Так вот, эти товарищи-большевики должны знать: если они идут из Великороссии к нам помочь в тяжелой борьбе с контрреволюцией, мы должны сказать им: «Добро пожаловать, дорогие друзья!». Если они идут сюда с целью монополизировать Украину, мы скажем им: «Руки прочь!».
Эти слова окончательно определили настроение делегатов. Они выразили недоверие правительству советской Украины, которое крестьяне «не избирали», а получили в виде назначенцев из Москвы, заявили о полной самостоятельности Советов на местах. Созданный на съезде Районный военно-революционный Совет крестьян, рабочих и повстанцев – высший исполнительный (но ни в коем случае не властный) орган всего движения, должен был выполнять наказы и постановления съездов, ведать всеми общественно-политическими и военными делами. В любую минуту съезд мог этот Совет распустить и избрать новый.
В предпоследний день решался один из главных вопросов, ради чего и созывался съезд: о мобилизации людей в Повстанческую армию. В тот момент она насчитывала около 20 тысяч бойцов-добровольцев, изнуренных непрекращающимися боями с деникинскими войсками и другим противником. Нужны были свежие силы.
Ставя этот вопрос на усмотрение делегатов, Махно волновался. Все попытки мобилизации населения Центральной радой, Скоропадским и большевиками кончались провалами. А здесь еще весна на носу. Крестьяне ждут не дождутся, чтобы начать посевные работы и получить хороший урожай.
Говорили долго и горячо: о пустых амбарах, о голоде, о том, что война и без того унесла всех мужиков: в селах остались бабы с детьми да старики. Кто будет пахать и сеять, если в армию уйдут последние мужики? Им возражали, что амбары пустые из-за немцев и карательных отрядов гетмана, а теперь пришли новые вороги – деникинцы. Эти еще больше ненавидят крестьян, отнимают у них землю, восстанавливают власть прежних хозяев и землевладельцев, как при Скоропадском. Не дашь им отпор, так они поставят всю деревню на колени. Свои проблемы вносят и большевики, которые на свободных от белых территориях создают совхозы. Выйдя на трибуну, Федосий Середа просил делегатов дать его сельчанам ответ, что делать с этими совхозами.
– А вот, что делать, – вскочил со своего места Веретельников, – гнать этих коммуняков с их совхозами в шею, землю разделить между крестьянами.
Все это время Махно молча хмурил лоб и чертил что-то на бумаге. На кону стоял вопрос не только о жизнедеятельности Повстанческой армии, но и о его личном авторитете: верят ли ему люди, пойдут ли за ним до конца или вверх возьмут собственные интересы? Съезд ему верил. Выплеснув все свои эмоции, делегаты проголосовали за всеобщую, добровольную и уравнительную мобилизацию жителей свободного района.
Никто не принуждает их вступать в повстанческую армию, каждый действует так, как подсказывает ему совесть. Но всем должно быть понятно, раз съезд вынес такое постановление, значит, армия крайне нуждается в своем пополнении. Уравнительная же означало то, что крестьяне всех сел и волостей будут поставлять бойцов на равных основаниях.
Вечером Махно принял «набатавцев» в штабе – красивом двухэтажном кирпичном здании с балконами, украшенном тяжелыми черными знаменами. Довольный, что Барон, Волин и Алый, самые уважаемые анархисты, решили у него остаться, он долго пожимал им руки. На Николая бросил исподлобья свой острый взгляд.
– А ты, Даниленко, не надумал?
– Пока нет. В Харькове полно работы.
– Опять в Харькове, – недовольно буркнул Нестор, – поймите вы, наконец, что здесь сейчас идет основная работа. Лекторы, агитаторы нужны в каждом полку, каждой роте, каждом взводе. Не хватает листовок и номеров газеты. Провели удачно бой, – давай листовку. Проиграли – разъясни людям, почему какой-то петлюровский или деникинский отряд смог нас одолеть, покажи бойцам их промахи. Для этого вы мне все тут нужны, весь ваш «набатовский» актив. Троцкий вон выпускает свою газету «Путь к свободе», нам ее подбрасывает, людей смущает. Мы должны отвечать ударом на его удары… И Аршинову давно пора приехать. Все кормит меня обещаниями.
– Нестор, ты на нас не можешь обижаться, – возразил ему Николай. – Мы тебе помогли с типографией, прислали наборщиков, печатников, вагон бумаги.
– Мне этого мало. Нужны грамотные люди, нужен еще один печатный станок, а для работы в полевых условиях – бостонки. Мы боремся под знаменем анархизма, а многие крестьяне не имеют о нем никакого понятия.
– Хорошо, постараемся прислать еще станок и людей. Ну, а насчет бостонок честно тебе скажу, не представляю, где их взять.
– Скоро здесь будет центр всей вашей работы. «Набат» перейдет сюда, – гнул свое Махно.
– Не торопи, Нестор, события. Этот момент еще не наступил.
– И так видно: большевики на вас и эсеров наступают. Вчера арестовали лекторов, завтра арестуют ваш актив и начнут атаку на конфедерацию. Они и нас терпят, пока мы сдерживаем Деникина. Подлейшие твари, – воскликнул он в сердцах. – Идемте, покажу вам село и потом ко мне, на ужин.
Гуляйпольцам было чем гордиться: в селе находилось три гимназии, высшее начальное училище, с десяток приходских школ, детские коммуны, много мельниц и маслобоен, разные предприятия, десять госпиталей. В одной из гимназий они зашли в класс литературы. На стене висели художественные портреты Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Шевченко, рядом – современные поэты Блок и Есенин. Поймав удивленный взгляд Николая, молоденькая учительница, сама недавняя выпускница гимназии, сказала, что эти портреты по ее просьбе нарисовала Маруся Нефедова.
– Вы и Есенина знаете?
– Да. Мне нравятся его стихи. Товарищи, зная об этом, раздобыли где-то старую московскую газету «Знамя труда» с его «Сельским часословом». Вы читали его?
– Нет, даже не слышал о таком, – Николай переглянулся с товарищами. Те тоже пожали плечами. – Эту газету давно закрыли.
– Удивительно то, – девушка покраснела, смущаясь присутствием Махно и гостей, – что удалось его напечатать, ведь он направлен против новой власти. «Где моя Родина, – восклицает поэт с горечью, – где Русь, что с ней случилось, что над нею сделали?» Хотите, прочитаю отрывки? Нестор Иванович, вы не торопитесь?
– Читай, – сказал Нестор, довольный, что его учительница обскакала городских интеллектуалов.
О солнце, солнце,
Золотое, опущенное в мир ведро,
Зачерпни мою душу!
Вынь из кладезя мук
Страны моей.
Каждый день,
Ухватившись за цепь лучей твоих,
Карабкаюсь я в небо.
Каждый вечер
Срываюсь и падаю в пасть заката.
Тяжко и горько мне…
Кровью поют уста…
Снеги, белые снеги –
Покров моей родины –
Рвут на части.
На кресте висит
Ее тело,
Голени дорог и холмов
Перебиты…
Волком воет от запада
Ветер…
Ночь, как ворон,
Точит клюв на глаза-озера.
И доскою надкрестною
Прибита к горе заря:
Исус Назарянин
Царь Иудейский
… О, красная вечерняя заря!
Прости мне крик мой.
Прости, что спутал я твою Медведицу
С черпаком водовоза…
Пастухи пустыни –
Что мы знаем?..
Только ведь приходское училище
Я кончил,
Только знаю библию да сказки,
Только знаю, что поет овес при ветре…
Да еще
По праздникам
Играть в гармошку.
Но постиг я…
Верю, что погибнуть лучше,
Чем остаться
С содранною
Кожей.
Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
Начертательница
Третьего
Завета.
Девушка читала с большим чувством, расставляя те акценты, которые вкладывал в каждую строчку и каждое слово сам поэт.
– Наш человек, – воскликнул Нестор, находясь под сильным впечатлением от этих строк, – прямо в душу заглянул. А как точно сказано: «Верю, что погибнуть лучше, чем остаться с содранною кожей». Это про нас. Надо этот «Часослов» отдать в типографию. Пусть размножат и раздадут бойцам.
ГЛАВА 3
Утром Федор на той же повозке отвез Николая на станцию. Он рассчитывал вскоре быть в Екатеринославе, однако, проскочив без приключений Александровск, поезд остановился посреди степи и так простоял несколько часов. Никто не знал в чем дело. Только в два часа дня выяснилось, что Екатеринослав занял большой отряд григорьевцев, отколовшийся от своей основной армии. На подступах к городу стоят эшелоны с артиллерией и пулеметами. «Вот так оказия, – расстроился Николай, – несколько дней назад там никого не было, а теперь пожаловали «незваные гости».
Люди стали обсуждать, что делать дальше. Возвращаться назад, не имело смысла, да и далеко; стоять здесь не только бесполезно, но и опасно: если восставшие будут отступать в эту сторону, то разнесут их поезд на части. Послали делегацию к машинистам. Те ждали указаний из Александровска.
Наконец по вагонам прошел кондуктор, объявил, что поезд пойдет на Кременчуг, минуя Екатеринослав. Ехать было одно мученье; каждую минуту поезд останавливался, в вагоны влезали подозрительные люди с ружьями, спрашивали документы, но больше заглядывали в корзины и отбирали в них то, что им понравилось. Все молчали, провожая их ненавистными взглядами.
Один старик в белом тулупе и сам весь белый (с белой бородой и белыми заросшими бровями), когда у него потребовали показать, что он везет в двух корзинах, стал испуганно оправдываться.
– Та що ж я везу, ничего такого я не везу. Трошки яичек, трошки сала. Діти вдома чекають… Вельможие пане, вы все-таки по-божецки, не все берите…
– Мовчи, – толкнула его в бок жена.
– А що у тебе під яйцями, мабуть гранати?
– Та що ви пани, – перепугался на смерть старик, – беріть хоч все, для таких шанованих людей мені нічого не наде.
– Все і візьмемо, нас багато, а ти один, – сказал, нагло улыбаясь, здоровый детина с широким, как тыква, лицом и мутными от пьянки глазами, и забрал у старика обе корзины. Тот даже не сопротивлялся, лишь бы его самого не трогали.
– От дурень, – зашипела на супруга жена, – я ж тобі казала: мовчи. Тепер з порожніми руками, куди ми поїдемо.
Старик не выдержал и заплакал.
За Екатеринославом Николай приготовился к выходу и на повороте, когда поезд замедлил ход, спрыгнул вниз. Далеко впереди горело зарево Брянки. Ориентируясь на него, он пошел в ту сторону и вскоре оказался на окраине Чечелевки.
Поселок были занят войсками. На улицах горели костры. Григорьевцы, одетые, как и махновцы, во что попало, спали вповалку на земле или приводили в порядок оружие.
На 3-ей Чечелевской улице небольшая толпа жителей угрюмо слушала григорьевского оратора – высокого худого мужика в длинном черном пальто и остроконечной теплой шапке, смахивающего своим видом и одеждой на монаха. И говорил он так же странно, как будто обращался с амвона к верующим.
– Труженик святой! Божий человек, посмотри на свои мозолистые руки и оглянись кругом; повсюду неправда, ложь и насилие. Ты – царь земли, ты кормилец мира, но ты же и раб, благодаря святой простоте и доброте твоей… Если ты дорожишь своей свободой, бери власть в свои руки…
Дождавшись, когда оратор закончит свою смутную речь, Николай вместе с толпой дошел до дома Сергея. Калитка была заперта изнутри. На стук на крыльцо выбежала Даша – в теплой кофте, накинутой на ночную рубашку, с распущенными волосами.
– Коля! – в голосе ее послышалось разочарование. – Я думала Сережа, выскочила, не одевшись. Идем в дом. Как же ты тут очутился, кругом бандиты…
– Приехал из Александровска, а где Сергей?
– Его второй день нет. Как ушел позавчера на совещание в ревком, так и пропал. Сердце всю ночь болело, боюсь, не случилось ли чего.
– Ребята с ним?
– Не знаю. Проходи сразу на кухню, накормлю тебя. Держу все горячим для Сережи.
Пока он умывался, она поставила на стол борщ и отварную картошку в чугунках.
– Ешь, не стесняйся.
– Попробую пробраться в город, – сказал Николай быстро расправившись с едой. – Где находится Ревком?
– Был в отеле «Астория» на Екатерининском проспекте, теперь не знаю…
– Это где, что-то новое…
– «Пальмиру» и «Бристоль» знаешь?
– Знаю.
– Увидишь напротив них пятиэтажное здание. Только, как ты попадешь, если кругом солдаты? Артиллерия гремит, не переставая. Нам еще на окраине везет, а там, поди, все дома разрушены.
– Кто же с ними воюет? Я был у Махно на съезде, его армия в другом месте…
– Наши рабочие отряды и студенты. У Сережи ноги болят, еле ходит и туда же полез. Что за жизнь проклятая? То петлюровцы, то австрийцы. Теперь вот эти.
– В Ромнах то же самое, власть меняется без конца.
– Вы с Лизой не жалеете, что вернулись из-за границы?
– Мы об этом не думаем. Долго оставаться в чужом месте нельзя. Тоска замучает.
– У Сережи плохо с ногами. Ему нужно серьезно лечиться.
– Я не знал. Что у него?
– В плену били палками. Вены вздулись, как толстые провода.
– В больницу обращались? Там раньше были неплохие врачи.
– Никуда он не ходит. Я сама разговаривала с доктором Волковым, бывшим коллегой Володи. Такие вены удаляют, но Сергей и слышать об этом не хочет. Хоть бы ты его уговорил.
– Волкова знаю. Ему можно довериться. Непременно с Серегой поговорю, – пообещал Николай, заглушив свою обиду на брата.
Дождавшись темноты, он отправился в город. На Гимназической улице задумался, куда идти дальше. Отсюда недалеко до того места, где жили братья, но вряд ли они были дома, если, по словам Даши, с григорьевцами сражались рабочие отряды и студенты. Решил все-таки идти на Екатерининский проспект, чтобы разыскать Сергея. По дороге встретил знакомого рабочего с Брянки Семена Луценко. Тот был ранен в руку и шел домой в Чечелевку.
– Ты не в курсе, где сейчас могут быть ревкомовцы? – спросил его без всякой надежды Николай.
Все еще находясь под впечатлением боя, Семен взволнованным голосом стал объяснять, что последний раз разговаривал с Ковчаном в гостинице «Астория», а где они сейчас, не знает.
– Будь осторожней, – сказал он, – бандиты обстреливают вокзал и проспект со стороны Потемкинского дворца. У них там много пушек.
– Проводить тебя до дома?
– Да что ты, сам как-нибудь доковыляю, – смутился Семен и бодро зашагал дальше.
На Екатерининском проспекте стоял страшный грохот. Два или три орудия, не переставая, били и били по домам и высоким тополям. У тротуаров застыли покореженные автомобили, в двух местах лежали на боку трамваи с открытыми дверями. Кругом валялись стекла, обломки кирпичей и куски штукатурки, пустые гильзы, винтовки. Несколько раз в темноте он натыкался на трупы.
Прижимаясь к домам, чтобы не угодить под обстрел, Николай пробрался к гостинице «Астория». Стоявший перед входом охранник, спросил:
– Вы к кому?
– Мне нужен кто-нибудь из Ревкома.
– Там, по-моему, никого нет. Посмотрите в 12-й комнате на втором этаже.
В огромном вестибюле с красивыми панно на стенах сидели и лежали на полу люди. Приглядевшись внимательней, он заметил, что все они спят. Время от времени кто-нибудь громко всхрапывал, и проснувшиеся соседи бесцеремонно толкали его в бок.
На втором этаже несколько человек около окна курили, громко разговаривая. При его появлении все разом замолчали. Он спросил их, где находится 12-я комната. Ему указали на массивную дубовую дверь с золотой ручкой.
В большой комнате, уставленной диванами и креслами, оказалась одна Нина Трофимова. Не удивившись его появлению, как будто он только что куда-то выходил и вернулся обратно, она сказала, что студенческий отряд разбит, Илья ранен и отправлен в больницу. О Сергее ничего не знает. Все члены Ревкома участвуют в боях.
– А Ваня?
Нина вытащила сигарету и закурила. Руки ее дрожали.
– Нина, что с Ваней? – спросил он, чувствуя в ее молчании что-то неладное.
– Его убили, – сказала она, глядя мимо него в сторону, в огромное окно, за которым виднелись темные верхушки тополей.
Николай опустился в кресло, закрыл лицо руками. Нина подошла к нему, прижалась головой к его спине, обняла за шею.
– Прости, что сообщила тебе такую неприятную новость. Хороший был паренек, похож на тебя в эти годы. Ты, наверное, удивишься, но я пыталась отговорить его вступать в отряд…
– Где он сейчас? – Николай вытер глаза и поднял голову.
– Есть специальные люди, которые подбирают убитых и раненых и отправляют в больницы. Оставайся пока тут. А сейчас прости, мне нужно к телефону.
Только тут он обратил внимание, что черный аппарат на столе звонит, не переставая. Нина принимала какие-то сообщения и передавала их дальше, по назначению. Время от времени она подходила к большой карте на стене и переставляла на ней красные и синие флажки, обозначавшие границы боя. Красные все больше смещались к вокзалу – большевики теснили туда григорьевцев.
– Я пришел из Чечелевки, – сказал Николай, – там полно солдат.
– Там их уже разбили. Сами войска не велики – отколовшиеся от Григорьева части, но у них много орудий. Все в наш город стремятся за добычей, нет сил отбиваться. Многие рабочие воюют в Красной армии с деникинцами и Колчаком.
Нина выглядела уставшей, разбитой. Он чувствовал к ней благодарность за то, что она пыталась остановить Ваню от участия в боях. В голове не укладывалось, что брат погиб. Этот серьезный, ласковый мальчик, мечтавший стать врачом и спасать людей. Вспомнилось, как когда-то, давным-давно, когда Ване было лет пять, они катались в Ромнах с горки по ледяной дорожке, брат упал, разбил лицо. Николай подхватил его на руки, и малыш, плача от стыда и обиды, стал оправдываться, что упал случайно. Ему хотелось быть таким же сильным и смелым, как старший брат. И вот этого мальчика нет. Зачем и почему его убили? И что будет с мамой, когда она об этом узнает?
Телефон все звонил и звонил. Нина курила и передвигала на карте флажки, теперь на ней оставались одни красные, синие кучкой возвышались на столе.
За огромным окном светало. Вместе с рассветом наступила тишина. Артиллерия на проспекте замолчала. Звуки боя теперь слышались где-то далеко: на мосту или на той стороне Днепра.
Пришли какие-то люди. Нина сказала Николаю, что они едут на городское кладбище: там будут похороны погибших, и велела ему идти с ними.
– Я попросила разыскать Сергея, чтобы он приехал туда, если, конечно, он сможет, – добавила она. – Ты знаешь, что у него больные ноги?
– Только сегодня узнал от Даши.
– Мы его видим каждый день. Это невозможно скрыть.
– Спасибо тебе, Нина, за все, за моих товарищей, которых ты помогла освободить из ЧК.
– Я всегда помню о тебе. В Екатеринославе сейчас находится Петровский. Его прочат на место Председателя Всеукраинского ЦИК.
– Вот как. Он будет на кладбище?
– Должен быть.
– Не хотел бы с ним встретиться.
У подъезда стояли два грузовика с гробами погибших бойцов, прикрытыми брезентом. Среди них мог быть и Ваня.
Николай сел в кабину передней машины. Проехав несколько кварталов, свернули на Первозвановскую улицу. Знакомый скорбный путь. По этой дороге они провожали в последний путь Мишу Колесникова и доктора Караваева. Кто бы мог подумать, что через несколько лет по ней будут везти убитого Ваню?!
К удивлению Николая, на кладбище собралось много народу. Сергей был тут, весь какой-то сникший, подавленный, с красными ободками вокруг глаз. За последнее время он сильно изменился и постарел. Ему уже сказали, что Николай приехал в Екатеринослав и все знает. Братья молча пожали друг другу руки. Ладонь у Сергея была горячая.
– Как твои ноги? – участливо спросил Николай.
– Уже нажаловались. Если честно, еле стою. Смотри, – он приподнял вверх брючину на правой ноге, и Николай увидел сильно распухшую красную ногу, едва умещавшуюся в ботинке. – И вторая такая же. Сапоги не могу носить.
– Надо лечиться.
– Сейчас не до этого, – отмахнулся брат.
Подошло еще несколько машин с телами погибших. Для прощания гробы ставили на специально сколоченный стол. Поставили гроб с Ваней. Он был в студенческом кителе, без фуражки, с растрепанными русыми волосами. Слева на виске виднелась маленькая дырочка с застывшей по краям темной кровью. Наверное, смерть наступила мгновенно, лицо его казалось спокойным, без страданий, даже с каким-то радостным детским выражением и, если бы не эта дырочка на виске, можно было подумать, что он спит и видит во сне что-то хорошее. Подошла девушка в черном пальто и белом платке, сползшем на затылок, положила ему на грудь гвоздики, поцеловала в губы.
– Его невеста Ирина, – шепнул Сергей, голос его дрогнул. Девушка подошла к ним и, разрыдавшись, уткнулась Сергею в грудь.
– Ну, ну, Ирина, крепитесь, – растерялся Сергей и, когда она подняла лицо, указал на Николая. – Это – еще один наш брат, Николай.
Девушка с безразличием взглянула на Николая и отошла в сторону.
Ждали Петровского. Он приехал через полчаса, когда уже решили начать без него. Николай его не узнал, настолько он изменился, как-никак они не виделись больше десяти лет. Депутатство в Государственной думе пошло ему на пользу: из простого рабочего он превратился в солидного интеллигента (типичного русского либерала) в круглых очках и с бородкой клином. Полтора года он занимал пост наркома по внутренним делам России и был в числе тех, кто подписал директиву о красном терроре, развязавшую руки ЧК.
Подойдя к братской могиле, Григорий Иванович окинул толпу уставшим взглядом. Говорил тихо и мало, отметив, что все погибшие – герои, они спасли Екатеринослав от бандитов, город их никогда не забудет. Затем выступали члены Ревкома, Горкома партии, Совета депутатов, преподаватели Горного училища и нового университета, студенты. Все клялись отомстить за погибших товарищей и помнить их вечно. Был среди них и профессор Александр Митрофанович Терпигорев. Вот также много лет назад они вместе с Николаем проводили митинг на могиле Миши Колесникова. Так же, как тогда, качались от ветра деревья и носились над толпой перепуганные вороны.
Прозвучал оружейный салют. Военный оркестр исполнил Интернационал.
В последний момент откуда-то вынырнул Дима Ковчан, как всегда, занятый организационными вопросами, радостно пожал Николаю руку.
– Студенты приняли на себя основной удар, – сказал он угрюмо, как будто был виноват в гибели Вани, – и вообще народу много погибло. Не хватает времени обучать людей военному делу… Ты еще долго тут пробудешь?
– Не знаю. Хотел с вами поговорить насчет наших лекторов, почему ЧК запрещает анархистам выступать на заводах?
Ковчан отвел его в сторону.
– Скажу тебе откровенно: мы с ЧК не всегда согласны, но они слушают Москву, а не нас. Предупреждаю тебя по-товарищески: «Набат» скоро ликвидируют. Есть на его счет негласное указание. Нашу губЧК возглавляет бывший анархист Арон Наумович Могилевский, знаешь такого?
– Не может быть. Помнишь, дело Дуплянского? Твой родственник еще помог нам с побегом из полтавской тюрьмы Лизиного брата Иннокентия. Могилевский был главный участник того убийства и ограбления… Теперь стал большевиком, да еще возглавляет тут ЧК? Чудны дела твои, Господи!… Жестокий человек.
– Не то слово. Чуть что, хватается за револьвер. У него все – бандиты и контра.
– Школа Дзержинского. Тот причислил анархистов к бандитам и врагам революции, громил наши отделения в Москве с пулеметами.
– Лично мы с Ниной не согласны с такой политикой, – сказал Ковчан, понизив голос. – Нам многое не нравится.
Его позвали, и он ушел, оставив Николая в растерянности.
Подошел Сергей.
– Я договорился насчет машины, нас отвезут в больницу. Илья тебе будет рад.
Седенькая нянечка, может быть, даже та, что работала в больнице при Володе, торопливо открыла им входную дверь и повела на второй этаж.
– Волков здесь? – спросил у нее Сергей.
– Недавно ушел, целый день возился с сыном Хазиной.
Николай не придал значения этой фамилии, возможно, даже ее не расслышал – так он был занят мыслями о гибели Вани.
В палате, кроме Ильи, лежали еще пять человек. Около одного из них сидела женщина в халате и белой косынке. Когда они вошли, она обернулась, и он узнал Лялю Зильберштейн, Лизину близкую подругу в гимназические годы.
Она тоже его узнала, медленно поднялась и, не имея сил сдвинуться с места, ждала, когда он подойдет к ней.
– Ляля, а ты тут с кем? – удивленно спросил он и увидел на кровати мальчика лет семи с перевязанной головой.
– Это мой сын, Сережа, – сказала она шепотом, еле сдерживая слезы. – Наш дом попал под обстрел. Старшая дочь и свекор погибли, а сына контузило в голову.
– Мама, с кем ты разговариваешь? – спросил мальчик.
– Это мой очень хороший знакомый, Николай Ильич.
– Здравствуйте. Вы кого здесь навещаете?
– Своего брата, он находится в этой же палате.
– Он не видит, – шепнула Ляля. – Я тебе потом все расскажу.
Илья лежал на кровати, уставившись немигающим взглядом в потолок, как будто там что-то изучал. Он слабо пожал Николаю руку и, оставаясь в той же позе, сказал, чтобы его ни о чем не расспрашивали.
– Можно узнать, хотя бы как ты себя чувствуешь?
– Это никому не интересно, раз Вани больше нет.
– Ты в этом не виноват.
– Виноват не виноват, я должен был за ним следить.
– Пуля не выбирает, в кого попасть.
– Ты пришел меня утешать?
– Я страдаю не меньше тебя.
– Прости, мне надо все пережить. – Илья, наконец, оторвался от потолка и повернулся к брату. Николай увидел в его глазах невыразимую боль и застывшие слезы. – На фронте люди гибли сотнями – и ничего, а здесь – как будто осколок засел в сердце. Мальчика тоже жалко. Сын мерзавца Хазина, а жена – хорошая, приносит нам еду и фрукты. Ты ее знаешь?
– Лизина близкая подруга. Скажу тебе по секрету: Володя был в нее влюблен, только у ее отца оказались меркантильные интересы, и он насильно выдал ее за Хазина. Володя очень страдал из-за этого.
– Она – красивая. Может быть, он до сих пор ее любит?
– Не знаю, – улыбнулся Николай, вспомнив прощальный ужин в ресторане «Пальмира», устроенный Володей перед отъездом в Петербург. Брат тогда долго скрывал от Ляли свой отъезд, боясь огорчить ее.
– Ирина была на кладбище?
– Была, подходила к нам.
– Я этих гадов всех уничтожу, даю вам слово, – сказал Илья, сжимая в руках угол простыни. Глаза его, до этого наполненные страданиями, вспыхнули гневом.
– Ты, боец, давай выздоравливай, – остановил его Сергей, – потом будем думать, что делать дальше.
Подошла Ляля.
– Сережа заснул. Коля, ты можешь мне уделить несколько минут?
– Да-да, конечно. Я сейчас вернусь, – сказал он братьям и пошел за Лялей в коридор. Она сняла косынку, и ему открылись ее чудесные золотисто-рыжие волосы, уложенные в прическу.
– Молодец, что сохранила длинные волосы, – улыбнулся Николай, чтобы как-то подбодрить ее, – а Лиза свои подстригла.
– У вас есть дети?
– Двое.
– Я ничего о вас не знаю. Хотела сходить к Сергею, да так и не решилась. Он тут – большая власть… Большевики нас всего лишили. Когда родителей выселили из дома, папа не смог этого пережить, умер от последовавших один за другим апоплексических ударов. У свекра тоже особняк отняли. Он и мама потом жили у нас.
– А муж?
– Он давно уехал из города. Детей он любил.
– А тебя?
– Ты же знаешь, как мы поженились… Жили, каждый сам по себе.
– Если хочешь, в следующий свой приезд я отвезу вас с сыном в Ромны. Там тоже круговорот бандитов, но все-таки спокойней, чем здесь. Лиза будет рада.
– Подожди, Коля. У Сережи очень тяжелое ранение. Он ослеп, доктор Волков, помнишь, что был тогда с нами в ресторане «Пальмира», говорит, что операцию делать бесполезно, прогноз на будущее самый неутешительный. Я уверена, что Володя сможет его спасти. Это по его профилю.
– Ты хочешь отвезти сына в Москву? Но это невозможно. Пассажирские поезда идут в Россию только из Белгорода, кругом бои.
– Как-нибудь доберусь. Надо успеть, пока, пока… – Она заплакала. Николай обнял ее и только тут заметил в ее прическе седые волосы. Сколько испытаний выпало на ее долю за эти годы.
– Я завтра или послезавтра поеду в Харьков. Поедем вместе. Помогу вам перебраться через границу. В Москве у меня есть жилплощадь. Дам тебе еще несколько адресов и телефонов. Мои друзья тебе обязательно помогут.
– В Москве живет мамина сестра, моя тетя. Лишь бы Володя взялся за операцию, иначе… не знаю, как жить дальше.
Они вернулись в палату. Илья, зная, что старшие братья находились в ссоре, протянул Николаю ключи от своей квартиры, тот покачал головой: теперь неуместно говорить о какой-то ссоре.
Внизу их ждала машина. Сергею надо было еще заехать в Ревком и решить какие-то важные дела.
Автомобиль выехал на Екатерининский проспект. Над городом разливался вечерний закат. На его фоне особенно нелепой казалась страшная картина разрушений: обвалившиеся стены домов, зияющие пустотой окна, покореженные машины и трамвайные линии. Удивительным образом сохранились башенные часы с музыкой на колокольне Успенского собора, выписанные когда-то купцом Остроуховым в Москве в фирме братьев Бутеноп, тех самых, что поставили куранты на Спасской башне в Кремле. По «успенским» еще в бытность его учебы здесь сверял свою жизнь весь Екатеринослав. Они шли, и вскоре отбили пять часов вечера.
Народ потихоньку выходил на улицы. Кое-где открылись лавки, обычно в такое время уже прекращающие свою торговлю, показались извозчики. Давя сапогами осколки стекол и кирпича, нестройным маршем прошел отряд рабочих с винтовками. Раненый город оживал.
Дома братья много пили, курили, утешали рыдающую Дашу. Ссора была забыта.
Сергей организовал для Ляли и ее сына необходимые документы в Россию и достал три билета на Белгород, там Николай должен был посадить их на московский поезд и вернуться назад.
До последней минуты братья решали, кто сообщит домой о гибели Вани. Вмешалась Даша, разумно рассудив, что какое-то время можно все скрывать. Мужчины переглянулись и согласились с ней.
В Харькове Николая ждал приятный сюрприз – письмо от Шарля Готье. На нем стояли штампы Парижа – от 12 марта прошлого года, Петрограда – от 18 декабря и Харькова – от 1 февраля этого года. Долго же оно бродило по белу свету.
Шарль восторженно писал о социалистической революции в России, и это понятно: вся правда о большевиках до Европы не доходила, о разгроме анархистов там и подавно могли не знать. На рассказ Николая о рабочем контроле, он уточнял, что идею рабочего самоуправления сформулировал еще Пьер Прудон, и именно она легла в основу появления профсоюзов. В Европе рабочий контроль особенного развития не получил. Возможно, в России он окажется более эффективным. Эту уверенность, по его словам, вселяет статья Ленина «Государство и революция». Во Франции анархисты и синдикалисты встретили ее с энтузиазмом: большевики отходят от своей диктатуры и решаются на строительство общества без государства. Бедный Шарль! Как можно глубоко заблуждаться, не имея ежедневных новостей из России.
Писатель сообщал, что Франсуа закончил книгу о войне, назвав ее «Все круги ада». Жорж Дютуа (парижский издатель Шарля) ее отлично издал, сопроводив текст рисунками французских художников-фронтовиков. Книга имела успех. Теперь Франсуа мечтает побывать в России и увидеть строительство нового мира своими глазами. Шарлю тоже хотелось побывать в России, но, увы! здоровье и возраст не позволяют.
Была важная семейная новость. Каролина вышла замуж за музыканта-скрипача из Гранд-опера и ждет ребенка. Старшая сестра ее опередила, родив третьего сына, так что он теперь дед, богатый внуками.
Николай написал ему в ответ длинное послание. Подробно описал разгром (расстрел) анархистов в Москве и по всей России, разрушивший все их надежды на создание безгосударственного общества.
«Со дня победы большевиков, – писал он дальше, – в России установилась диктатура одной их партии. Ленин и его правительство (Совет народных комиссаров – Совнарком), как спрут, опутали все стороны деятельности государства. Для управления революционным народом они повсюду создают свои государственно-административные органы, рассылают им указы и постановления. Все должны подчиняться только им, жить, работать и даже думать (всякое инакомыслие жестоко преследуется) под их бдительным оком. Любой протест, сопротивление или творческое начинание преследуется специально созданными для этого чрезвычайными комиссиями – ЧК.
На опыте России мы убедились, что придуманная Марксом диктатура пролетариата – совершенно не нужная в революции стадия. Без нее вполне можно обойтись, сразу перейдя от буржуазно-капиталистического строя к анархическому коммунизму. И осуществлять это должны вольные Советы, а не большевистские, управляемые своей партией и превратившиеся в настоящее время в принудительные учреждения.
В начале революции кое-кто из наших товарищей считал возможным входить в Советы и другие массовые организации, чтобы разлагать власть изнутри. Из этого ничего не получилось и не могло получиться, этих людей было слишком мало, чтобы побороть огромную махину государственного аппарата.
В связи с этим мы выдвинули лозунг «третьей революции». Февральская революция свергла самодержавие, власть помещиков; октябрьская – Временное правительство, власть буржуазии; новая, «третья» должна сбросить советскую власть, власть рабочего класса, и устранить государство вообще, то есть ликвидировать государство пролетарской диктатуры».
В конце он не удержался и описал посещение в Москве спектакля своего близкого друга Петра Остапенко «Смерть атамана» – рождение нового советского искусства. «Жаль, что вы не пишете больше книг, – посетовал Николай, – была бы хорошая возможность порассуждать обо всех наших революционных опытах».
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
СТАРАЯ НОВАЯ ЛЮБОВЬ
ГЛАВА 1
«Есть на свете добрые люди», – думала Ляля Хазина, когда расставшись с Николаем Даниленко на границе с Россией, они сели на московский поезд. Посадка была тяжелой. Помогли ей двое солдат-красноармейцев, посочувствовавшие ее положению. Один протащил в вагон ее и чемоданы, другой внес на руках Сережу, заставив пассажиров освободить для больного ребенка всю нижнюю полку.
– Вы, гражданочка, не переживайте, – сказал один из них, накидывая на мальчика свою шинель, – мы тоже едем в Москву, если что, обращайтесь к нам, не стесняйтесь.
На крупных станциях они бегали для них за кипятком, приносили горячие пирожки с картошкой. Тот, что накинул на мальчика шинель, достал из кармана губную гармошку и исполнил на ней «Коробейников». Сережа захлопал в ладоши и попросил сыграть еще что-нибудь.
– Вы где-нибудь учились? – спросила его Ляля, тронутая тем, что солдаты их опекали, а игра на гармошке развеселила сына.
– Учился в музыкальном училище и играл на балалайке в Великорусском оркестре Василия Васильевича Андреева, был с ним даже в Париже.
– У вас хорошо получается, – похвалил его Сережа, – дайте мне тоже попробовать.
– Что ты, тебе нельзя, – испугалась Ляля, что ему придется напрягаться, а это могло повредить его состоянию. Боялась она и инфекции от незнакомых людей, особенно тифа.
Поняв ее беспокойство, солдат обтер платком гармошку и вручил ее мальчику.
– Бери, пацан, насовсем, поиграешь, когда поправишься.
– Я не могу принять такой подарок, – смутился Сережа.
– Бери, бери, у меня есть другая, – сказал красноармеец и, чтобы скрыть волнение, отвернулся к окну.
Колеса неторопливо отсчитывали километр за километром, перегон за перегоном. Кончились бесконечные степи, потянулись леса и русские деревеньки с покосившимися черными избами под соломенными крышами. Серое холодное небо с белыми просветами облаков, скучная и убогая жизнь. Выйдет на переезде женщина-смотритель в тулупе до пят, поднимет свой флажок и смотрит с тоской на мелькающие мимо вагоны. Зато на станциях многолюдно, как будто сюда стекалась вся Россия. Замотанные в клетчатые платки бабы с корзинами предлагали на обмен (деньгам не доверяли) вареную картошку, соленые огурцы, моченые яблоки. Юркие мужички, хватая за рукава отважившихся вылезти на перрон пассажиров, показывали из-под полы меха и антикварные вещи. Их гоняла милиция, разрывая воздух пронзительно резкими свистками.
Ляля ехала в Москву с большим волнением, думая о встрече с Володей. Ее чувства к нему оставались прежними. Она никогда не забывала своего «милого доктора», наоборот, в ее мыслях он всегда присутствовал рядом: они ходили в театры, гуляли по городу, сидели где-нибудь в парке, обнимаясь и целуясь, как это было в последние дни перед их расставанием. Иногда ее фантазии заходили еще дальше: теперь она была замужней женщиной, знала, как это бывает между мужчиной и женщиной, и представляла себя в объятьях любимого человека. Сердце ее сжималось, тело трепетало, казалось, что все, что она воображала в своих грезах, происходит наяву. Володя, как живой предмет, навсегда поселился внутри нее. Отними этот предмет, и она погибнет.
В книгах иногда пишут о героинях, любивших своих первых возлюбленных до конца жизни. Раньше Ляля считала это выдумкой писателей. Теперь она знала: это может быть на самом деле, но с такими же несчастными женщинами, как она сама; они живут другой, нереальной жизнью, отгораживаясь так от тяжелой действительности.
Своего мужа Артура она никогда не любила и не могла полюбить уже по той причине, что их поженили против воли. К тому же свободная студенческая жизнь в Дерпте его развратила, а так как Ляля не была подготовлена для отношений с мужчинами и не проявляла к мужу особых чувств, он открыто ей изменял, иногда исчезая из дома на несколько дней.
Пока дети были маленькие и ничего не понимали, Ляля особенно не страдала из-за этого, но когда сын однажды ей сказал, что видел папу с чужой тетей и тот целовал ее при всех на улице, она поставила перед мужем вопрос о разводе.
Вмешались родители, беспокоясь больше о совместном капитале, чем о счастье своих детей. У них был солидный банк «Прометей» с отделениями во многих южных городах России, два крупных завода: чугунолитейный и механический в Екатеринославе, ртутный рудник в Горловке и многое другое, составляющее приличное состояние Хазиных – Зильберштейнов. Деньги и тут и там текли рекой.
Наум Давыдович и Исаак Мартьянович регулярно проводили с Артуром воспитательные беседы по поводу его поведения. Все было напрасно. При этом он много и добросовестно работал, заявляя обоим отцам, что принимает от них претензии только по работе, а его личная жизнь их не касается.
Зильберштейн сам был человеком крутого нрава и ни во что не ставил жену, но все это происходило в стенах дома, об их семейных ссорах никто не знал, а Артур своими любовными похождениями позорил их на весь город. В конце концов, Наум Давыдович пригрозил зятю, что, если тот не угомонится, он сгноит его в тюрьме и лишит всей собственности. Артур на какое-то время притих, но своими угрозами насчет собственности (впрочем, не имевшими правовой основы) Наум Давыдович обидел старшего Хазина, отношения между сватами и компаньонами испортились. Так бы все это и тянулось, если бы не война и не последовавшие за ней революции…
Пришедшая на Украину советская власть национализировала все их предприятия, рудник, банк, автомобили, баржу и многое другое, что было связано с добычей руды и перевозкой грузов. Зильберштейн не смог этого перенести и вскоре умер от последовавших один за другим кровоизлияний в мозг. Старший Хазин кое-как держался, находя утешение во внуках. Артур опять ударился в загулы, много пил и пропадал у своих любовниц.
В это время в городе началось формирование добровольческого белогвардейского корпуса. Исаак Мартьянович сам подтолкнул сына вступить в эти войска, иначе бы тот окончательно спился или оказался в застенках ЧК. После того, как в ночь с 27 на 28 ноября 1918 года отряд из частей корпуса выступил в поход на соединение с армией Деникина, от Артура не было никаких известий.
ГЛАВА 2
В Москве был страшный холод. Казалось, от мороза звенел воздух, трещала и лопалась на деревьях кора. Продолжая опекать «барышню» и ее больного ребенка, добрые люди – солдаты, нашли им таксомотор, перенесли туда Сережу и велели водителю доставить пассажиров на место в целости и сохранности, «иначе ему несдобровать».
– Будьте покойны, – успокоил их водитель, тоже тронутый видом больного мальчика, – доставим в лучшем виде.
Лялина тетя, Ирэна Болеславовна Ардашева когда-то жила в особняке во Вспольном переулке с мужем, генерал-майором Ардашевым, и двумя сыновьями. Оба сына погибли зимой 1915 года в Мазурском сражении, генерал-майор несколько позже был ранен в грудь, после чего долго лечился в той самой Шереметевской больнице, куда Ляля везла сына, и умер, не дожив до второй революции несколько дней. Новая власть выселила генеральшу из особняка в густонаселенный подвал соседнего дома. Не выдержав общения с пролетариями, она переехала на свою дачу в Сокольниках, но и здесь ее вскоре потеснили (уплотнили), оставив из всех комнат одну, угловую на втором этаже.
Ляля не знала, что Сокольники – окраина города и, когда машина въехала в лесной поселок, начала беспокойно оглядываться по сторонам.
– Вы, дамочка, зря тревожитесь, – сказал водитель, заметив ее волнение, – это дачное место. Здесь вместо улиц – просеки. Сейчас мы едем по первой лучевой, а у вас – седьмая. Вот и трамвайная линия. Отсюда можно, куда хошь доехать. Место, конечно, беспокойное, вечером лучше не ходить. Зато воздух чистый. Летом народу прибавится, станет веселей.
– Вы сразу не уезжайте, – сказала Ляля, рассматривая высокие заиндевелые березы и разлапистые ели, придвинувшиеся к самой дороге; они почему-то внушали ей беспокойство. В конце дороги виднелся красный закат и толпящиеся над ним, словно горы, розовые облака. – Мы едем наугад к родственнице, может быть, ее здесь нет.
– Как же так: с больным ребенком и наугад?
– Я уже взрослый, не ребенок, – обиделся Сережа.
– Ну, извини, брат. Немного оплошал.
– В Москве меня вылечат. У мамы есть хороший доктор. Мы к нему едем.
– Дай-то Бог. Ну, вот и ваш дом. Я вам подсоблю с сыном, не беспокойтесь.
Ирэна Болеславовна была дома и не сразу поняла, кто к ней приехал; она видела племянницу только в детстве, а потом – на фотографиях. Ляля расстегнула шубу, сняла меховую шапку и повязанный сверху шерстяной платок. Тетя всплеснула руками: до чего она похожа на мать, ну, просто копия.
Трудно было понять, рада она гостям или нет. Терпеливо выслушав рассказ племянницы об ее трагедии, она покачала головой и принялась жаловаться на тяжелую жизнь в столице, дороговизну на рынках, постоянное повышение цен на дрова.
– Дрова-то вон за окном, – говорила она с возмущением, – а мы покупаем их втридорога у спекулянтов.
– Мы вам в тягость не будем, – успокоила ее Ляля, – у нас есть деньги и вещи на обмен. Хорошо, что ничего не украли в дороге. Нас опекали два красноармейца.
– Один подарил мне губную гармошку, – похвастался Сережа.
– Представьте, тетя, этот человек учился в музыкальном училище, играл в оркестре Андреева и, на тебе, стал большевиком.
– Ох, лучше не упоминайте о них. Никогда не поверю в их благородство. Здесь есть домовой комитет, будут меня пытать, кто вы такие и зачем приехали. Вам придется обязательно туда сходить и прописаться по документам, иначе замучают, а то и выгонят, и меня вместе с вами.
По рассказам мамы, тетя Ирэн была нежнейшим и добрейшим существом, но, видимо, потеря близких людей и трудности жизни ее изменили. Ляле она показалась черствой и равнодушной, их беда ее не тронула.
Ужинали продуктами, привезенными из Екатеринослава (на рынке там все было). Мама прислала в подарок сестре буженину, большой кусок сала и головку швейцарского сыра. Для Володи были приготовлены две бутылки английского рома – остатки былой роскоши Хазинов – Зильберштейнов. Ирэна Болеславовна выразила желание попробовать и ром. Ляля дала ей одну бутылку, лишь бы угодить тетушке. И ела в основном только она. Мать и сын так устали, что мечтали скорей очутиться в постели.
Сережа спал тихо. Тетя же так храпела, что ее слышали, наверное, соседи за стеной. Ляля лежала на тонком матрасе на полу. То ли из-за этого храпа, то ли из-за волнений, как пройдет завтрашний день, она не могла заснуть. А, может быть, ей мешала луна, освещавшая комнату через тонкую кружевную занавеску? Она встала и, ступая голыми ногами по холодному полу, подошла к окну. Совсем рядом – только протяни руку, стояли березы и заснеженные ели. Приглядевшись, увидела на ближнем суку огромную ворону (при свете дня это оказался корявый сук). Та тоже не спала и смотрела на Лялю, широко раскрывая рот, как будто что-то вещала или просила. Ляле, казалось, что она слышит ее мерзкое карканье. Ей стало не по себе. Она вернулась обратно, накрыла голову подушкой, чтобы спрятаться от луны и заглушить тетин храп, но так и не смогла уснуть, прокрутившись на своем матрасе всю ночь.
Надеясь застать Володю до операции, Ляля вышла из дома в семь часов утра, но, пока она ждала трамвай сначала на своей остановке около дома, затем, делая две пересадки в городе, время было упущено. Когда она, наконец, взбежала на второй этаж хирургического отделения Шереметевской больницы, ей сказали, что профессор Даниленко в операционной, освободится не скоро. Сдерживая слезы, она отошла к окну и так простояла несколько часов, наблюдая за интенсивной жизнью больницы во дворе.
За этим занятием она пропустила Володю, когда тот вышел из операционной. И потом он несколько раз прошел мимо нее, пока кто-то не остановил его с вопросом, и он невольно обратил внимание на женщину с золотистыми волосами, стоявшую около окна. Такие волосы могли быть только у одного человека – Ляли Зильберштейн.
– Прошу прощения, – сказал он своему собеседнику и направился к рыжеволосой женщине. Сердце его тревожно билось, и он, наверное, расстроился, если бы это оказалась не Ляля, но это была она.
– Ляля!? – радостно воскликнул он.
– Владимир Ильич, – растерялась та, тысячу раз представляя эту сцену и оказавшись все-таки не готовой к ней, – я..я… я приехала к вам с просьбой. – Тут она не выдержала и разрыдалась. – Володя, у меня сын ранен в голову, спаси его. Я знаю, что ты обязательно спасешь его.
– Успокойся, – он взял ее под руку и повел в свой кабинет. – Рассказывай все по порядку.
Волнуясь и сдерживая слезы, Ляля сбивчиво рассказала о том, что привело ее в Москву. Володя не мог слушать ее без жалости, а, просмотрев рентгеновские снимки, убедился, что его коллеги в Екатеринославе поставили точный диагноз: у мальчика была травма, несовместимая с жизнью; удивительно, что он еще жив и смог выдержать тяжелую дорогу. Но у него не хватило духу сказать ей об этом.
– Я сейчас вызову машину с санитарами. Привезешь сына, и мы решим, что делать дальше. Я вас дождусь.
– А операцию, операцию, когда ты сделаешь, разве не сегодня?
– Нет. Надо провести еще ряд обследований, – сказал он, стараясь не смотреть ей в глаза. – У нас здесь другое, более точное оборудование. А Сережу в больнице кто осматривал?
– Алексей Викторович Волков.
– И он делает операции?
– Нет, только консультирует. Он получил на фронте тяжелые ранения, ходит с палкой.
– А кто там еще остался из старых знакомых? – спросил Володя, надеясь услышать что-нибудь о Любе: с тех пор, как они уехали с Волковым в санитарном эшелоне, от нее не было никаких известий.
– Больше никого не знаю. Все новые лица.
– Ну, ладно, поезжай за сыном.
Мальчик понравился Володе: умный, тихий, как все обреченные дети, обо всем подробно расспрашивал, как и чем будут вскрывать череп, почему он ослеп и сможет ли потом видеть – он любил рисовать и занимался дома с учителем живописи.
После тщательного (для видимости) осмотра они с Лялей вышли в коридор.
– Ты спасешь Сережу? – она посмотрела ему в глаза, и все в них прочитала. По ее щекам потекли слезы. – Он обречен. Ты тоже не можешь ничего сделать.
– Врачи в Екатеринославе были правы. Будь ко всему готова, – сказал он со всей жестокостью хирурга и обнял ее. – Я буду с тобой.
ГЛАВА 3
Сережа умер через пять дней. Володя помог Ляле с похоронами. На кладбище они были вдвоем. Тетя не поехала, сославшись на плохое самочувствие и сильные морозы.
Ляля оставалась в Москве, у нее не было сил ехать обратно, и они часто встречались с Володей, считавшим своим долгом поддержать ее.
Неожиданно быстро пришел апрель, за ним теплый и буйный листвой май. Они бродили по улицам и бульварам в центре города. Оба понимали, что эти встречи стали больше, чем прогулки людей, которые ходят по улицам, чтобы в трудную минуту один поддержал другого, что ничего хорошего из этого не выйдет потому, что у Володи есть семья, дети, но было мимолетнее счастье, неожиданно налетевшее на них, и никто не решался первым его нарушить. «Я еще ей нужен, – убеждал себя Володя, назначая день и место следующей встречи. – Она в таком состоянии, что ей нельзя оставаться одной». «Раз он со мной встречается, – думала Ляля, – значит, я ему небезразлична, он не чувствует себя счастливым со своей женой».
Тут в ситуацию вмешалась тетя. У Ляли кончились деньги, и Ирэна Болеславовна, жившая все это время за счет племянницы, предложила ей вернуться в Екатеринослав или подыскать работу в Москве, а заодно и другое место жительства.
– Тетя не дождется, когда я уеду, – сказала как-то Ляля. – Надо возвращаться домой. Не знаю, как я там смогу жить без детей.
– Оставайся в Москве. Я устрою тебя на работу, в нашу больницу или другое место. Снимешь комнату. Я тебе помогу.
– Спасибо. Ты такой хороший, – сказала Ляля и первый раз за все это время обняла его за шею и поцеловала. Он тоже ее обнял и прижался щекой к ее лицу. Затем придвинул губы к ее губам и поцеловал долгим, сильным поцелуем так, что у нее закружилась голова. Она попыталась что-то сказать, и он тотчас снова закрыл ее рот поцелуем. Сердце ее радостно запрыгало.
– Ты меня любишь? – спросила она, сразу пожалев об этом, так как его ответ, который должен был быть именно таким, а не другим, ее больно ранил, обнажив самый острый нерв их отношений.
– Люблю, – сказал он и, сделав над собой усилие, добавил, – но семью бросить не могу.
– Никто этого не просит.
– Прости, но я должен был это сказать, – Володя уже пожалел, что коснулся этого вопроса, ведь Ляля от него ничего не требовала.
Несмотря на этот неприятный для обоих разговор, неожиданный поцелуй их еще больше сблизил.
Володя устроил ее в Солдатенковскую больницу санитаркой в хирургическое отделение, там ей помогли получить комнату в бывшем доходном доме в Газетном переулке – самый центр, и трамвай шел отсюда до самой работы, правда, шел долго, почти час, зато без пересадки и за это время можно было вполне выспаться.
Ляля теперь часто работала по вечерам и в ночную смену, они стали реже видеться. Как-то они встретились после ее работы на Тверском бульваре. Было ветрено и дождливо. «Что мы с тобой ходим как неприкаянные, – сказала Ляля, – пойдем ко мне».
Квартира была огромной, как все квартиры в этом доме, принадлежавшем когда-то крупному домовладельцу, купцу первой гильдии Якову Семеновичу Шиманскому. В смутные дни октябрьской революции на купца напали пьяные солдаты, избили, отобрали кошелек, сняли шубу и оставили лежать на снегу при сильном морозе, пока его полуживого не нашли прохожие и не доставили в больницу. В эту же ночь купец умер. Все остальные члены некогда большой купеческой семьи: три брата, две сестры, племянники, старые тетки, 80-летний дядя с молодой женой, помогавшие Якову Семеновичу в деле или жившие за его счет, исчезли сразу после второй революции. Кто уехал за границу, кто был арестован и до сих пор сидел на Лубянке, кто исчез из города в неизвестном направлении. В доме осталась лишь 46-летняя дочь Евгения Яковлевна, ставшая в замужестве Назаровой.
Коридор – широкий, длинный. Судя по одежде на вешалках и обуви в галошницах около каждой двери, в квартире проживало не меньше 30 человек. Лялина комната находилась в самом конце и, пока они шли к ней, каждая дверь непременно приоткрывалась, и оттуда выглядывали любопытные лица. Обсуждая потом на кухне Володин визит, соседи задавались вопросом, как это «тихоня», как прозвали Лялю за ее молчаливый и скромный вид, смогла подхватить такого представительного мужчину, слегка припадающего на одну ногу. Кто-то заметил у него обручальное кольцо на правой руке, еще больше усилившее интригу.
Они пили чай, обсуждали события в его больнице и на ее работе. Вскоре Володя начал нервничать, с тревогой посматривая на часы, стрелки которых неумолимо приближались к десяти.
– Мне пора. – набравшись решимости, Володя вышел из-за стола и снял с гвоздя пальто: Ляля попросила его раздеться в комнате.
– Подожди.
Она повесила пальто обратно и, сама не зная, как это случилось: невозможно было удержать накопившиеся в ней чувства, обняла его и потянула за собой на кровать. Невольно и он подчинился ее желанию. Его губы оказались на ее губах, руки медленно заскользили вдоль тела, опускаясь все ниже и ниже, где задравшаяся юбка обнажила нижнее белье. И все куда-то поплыло, закрутилось в вихре испепеляющей их страсти. Когда оба спустились на землю, Ляля обняла его и положила голову к нему на грудь. Там еще часто и громко билось его сердце.
– Мне никогда не было так хорошо, – прошептала она. — Я люблю тебя с тех самых пор… и никогда не переставала любить. – Все остальное неважно.
– Что неважно?
– Что мы никогда не сможем быть вместе.
– Скажи, ты никогда не жалела, что послушалась тогда отца и не поехала со мной в Петербург? Ведь все могло быть по-другому…
Она закрыла его рот рукой.
– Той девочки давно нет. Возможно, сейчас бы я поступила иначе… Н-н-нет, не думаю, папа угрожал тебе и выполнил бы свое слово, испортил бы тебе карьеру, и маму извел. Он над ней все время издевался.
– Прости меня, но ни тогда, ни сейчас я не понимаю твоих аргументов. Ты просто не хотела мне довериться.
– Володенька, – неистово зашептала она, покрывая его лицо поцелуями, – любимый мой, я уже за это достаточно наказана. Ты мое счастье, моя жизнь, единственное, что у меня осталось.
– Ты терзаешь мне душу, – сказал он, пытаясь вырваться из ее рук. – Мне пора идти.
– Останься до утра, хотя бы один раз…– она еще крепче прижалась к нему, не давая ему пошевельнуться.
– Не сегодня… В следующий раз. Я что-нибудь придумаю, – он высвободился из ее рук и стал быстро одеваться.
Прошло две недели безумия, дошедшие до того, что Володя предупреждал дома, что у него срочные ночные дежурства, и оставался у Ляли. Отрезвление пришло, когда одна из нянечек утром сообщила ему, что его жена приходила ночью в отделение и спрашивала его. Ей сказали, что профессора срочно вызвали в Кремль, но она не поверила. В больнице все обожали профессора за его «золотые руки» и одинаково ровное отношение ко всем больным и медперсоналу.
– Владимир Ильич, а если Елена Сергеевна опять придет, что ей говорить? – заговорщицки прошептала женщина, догадываясь, что в жизни даже такого уважаемого человека могут быть мужские «тайны».
– Вам не надо ничего придумывать, – сказал Володя, невольно краснея, – у меня было срочное дело, не успел жену предупредить. Теперь она знает.
Елена давно поняла, что у Володи появилась другая женщина: слишком часто он стал задерживаться на работе и откуда-то возникли ночные дежурства, которые раньше случались крайне редко. Это было что-то новое в его поведении. Она испугалась. В Москве она, наконец, оценила его положение: высокую должность в больнице, авторитет в научном мире, вызовы к членам Совнаркома и другим высоким руководителям и, наконец, закрытые распределители и правительственные пайки. Новую власть она не любила, но, будучи практичным человеком, сблизилась с женами некоторых крупных партийных чиновников, получая через них пропуска в Большой театр на закрытые мероприятия.
Перебирая в уме всех женщин из его окружения в больнице, она не видела ни одной из них, кем Володя мог бы серьезно увлечься. Мимолетную связь она не исключала, но не настолько, чтобы где-то пропадать целыми вечерами и оставаться на ночь.
Зная, что ее ночной визит в отделение может отразиться на репутации мужа, она все-таки отважилась на такой шаг. Ужас и отчаянье охватили ее, когда выяснилось, что его там нет. «Я вам говорила, что он завел другую женщину, – доложила она тете Паше, когда вернулась домой. – А вы все: не может быть, не может быть. Все делают из него идеал, а он такой же, лицемер, как все мужчины». Говорила она нервно, резко, готовая учинить на следующий день мужу грандиозный скандал. Тетя Паша посоветовала ей успокоиться и сделать вид, что ничего не произошло: все уладится само собой. Эта женщина, ставшая в их доме равноправным членом семьи, всегда была на стороне Володи, вызывая у Елены возмущение своей «собачьей преданностью» ему.
Случись это в Киеве или Петрограде, она ушла бы с детьми к родным; в Москве ей даже не с кем было посоветоваться, выплакать свою боль и обиду. Одна из ее новых знакомых, жена режиссера Суздальцева, Светлана, которой она все-таки рассказала об этой ситуации, имея, конечно, в виду не себя, а некую «близкую подругу», порекомендовала «этой подруге» перестать общаться с мужем, то есть объявить ему бойкот, что Елена и сделала.
В доме воцарилась гробовая тишина, не было слышно даже тети Паши, обычно гремевшей на кухне посудой и напевавшей себе под нос.
Володя был подавлен. Встреча с Лялей перевернула его жизнь. Еще недавно, занятый работой, он не обращал внимания на женщин в своем отделении, пресекал попытки молодых медсестер и врачей заигрывать с ним и навязывать отношения.
И вот все изменилось. При появлении Ляли старая любовь, задавленная им самим десять лет назад из-за корыстных целей ее отца, вспыхнула опять и оказалась выше его сил. Он любил эту женщину, поэтому так остро ощущал ее горе, переживал вместе с ней смерть ее детей, и давно не был так счастлив, пожалуй, с тех самых пор, как у него родился первый сын Саша.
Поведение жены невольно втягивало в эту ситуацию и мальчиков: они сторонились отца, за столом сидели, уткнувшись в тарелки, а если встречались с ним глазами, то он читал в них упрек: предатель. И, как это было ни тяжело, решил поставить точку в отношениях с любимой женщиной, опять задавить в себе все чувства. Выдержав несколько дней, он позвонил Ляле домой, чтобы сообщить о своем решении.
– Прости меня, – удрученно произнес он, – я не могу поступить иначе.
– Пожалуйста, ни в чем себя не вини. Я тебе за все благодарна, ты и так для меня много сделал.
– Я буду тебе звонить. Ты… ты мне очень дорога…, – сказал он с отчаяньем в голосе и повесил трубку.
Сознавая свою вину перед Володиной женой, Ляля сама страдала от этого и первой хотела разорвать их отношения, но все тянула и тянула, и вот он опередил ее. Сейчас для нее это оказалось намного мучительней, чем в прошлый раз: невольно возникало чувство горечи, что у него все хорошо, есть семья, дети, а она, потеряв дочь и сына, осталась в полном одиночестве. Однако теплился маленький огонек: его обещание звонить, и она жила в ожидании этих его звонков. Разговаривала с ним веселым, бодрым голосом, иногда нервно смеялась, скрывая под этим смехом вырывавшиеся наружу слезы.
Миновало еще несколько месяцев. Володя успокоился, решив, что она тоже успокоилась и со всем смирилась. Теперь, когда он звонил ей, голос у Ляли был ровный, даже какой-то счастливый. За это время она успела окончить медицинские курсы, работала теперь в своей хирургии медсестрой. «Очень рад за тебя, – похвалил ее Володя, когда она сообщила об этом. – Теперь учись дальше. Помнишь, ты мечтала поступить в медицинский институт?» «Посмотрим, – ответила Ляля. – Мне сейчас не до этого». «Чем она так занята?» – удивился Володя и, как всякий мужчина, ревниво предположил, что у нее кто-то появился. Ему стало досадно, что она так быстро утешилась и, возможно, больше не нуждается в его звонках.
ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ
ОБУХ ПЛЕТЬЮ НЕ ПЕРЕШИБЕШЬ
ГЛАВА 1
Хотя украинские большевики и притесняли анархистов, пока не решались на такие суровые меры, как в России. Все изменилось, когда в Харькове появился председатель Реввоенсовета РСФСР Лев Давыдович Троцкий, настроенный раз и навсегда покончить с партизанской вольницей на Украине и в первую очередь с армией Махно, пропитанной анархистским духом.
Срочно состоялось заседание Совета рабоче-крестьянской обороны Украины под председательством Христиана Георгиевича Раковского. Обсуждался один вопрос: «Махновщина и ее ликвидация». Помощники Троцкого разложили на столе вырезки из анархистских газет «Набат» и махновских изданий, в которых резко критиковалась советская власть, все ее органы, ВЧК, декреты и в целом политика большевиков. Эти безумные политиканы, как называл военком анархистов, призывали народ к созданию «вольных трудовых советов», самоуправляющихся коммун и анархическому строю, не желая признавать советскую власть и ее Советы.
Оглядев присутствующих острым, пронизывающим насквозь взглядом, Лев Давыдович потребовал ответа, почему они до сих пор терпят у себя под носом бандитов. Когда же Раковский пытался объяснить, что благодаря Махно удается удерживать хорошо вооруженную многочисленную армию деникинцев, Троцкий резко оборвал его.
– Неужели вы не понимаете, – воскликнул он с раздражением, и глаза его зловеще сверкнули из-под пенсне, – махновщина куда более опасна, чем Добровольческая армия Деникина, Григорьев и другие батьки-атаманы вместе взятые. У вас под боком анархисты разлагают части Красной армии, перетягивают их на свою сторону, а вы делаете вид, что ничего не происходит. За такое пособничество врагам революции каждый из вас лично ответит перед партией.
– Что же теперь делать? – робко произнес Раковский, на которого убийственно действовали взгляд и тон военкома, а ведь не так давно, в эмиграции, они были в дружеских отношениях, и он доставал для него и Мартова деньги, чтобы они выпускали в Париже свою газету «Наше слово». Помнил он и то, что Лев Давыдович долгое время находился в оппозиции к Ленину и большевикам, и Владимир Ильич его резко критиковал, не стесняясь в выражениях.
– Я поражаюсь вашей близорукости, – продолжал военком. – Анархисты устроили свой центр в селе Гуляй-Поле и стекаются туда со всех сторон. У них есть культпросвет, газеты, клубы, театры, оркестры, хоры. Вы слышали что-нибудь о системе свободного образования Франсиско Феррера? Нет!? А они усиленно внедряют ее у себя в школах. Так работают анархисты в то время, как наши комиссары и агитаторы бездействуют, и к махновцам переходят целые подразделения красноармейцев.
– Махно арестовал всех полковых комиссаров, – робко сказал Адольф Абрамович Иоффе, еще один соратник Троцкого по загранице и подписанию Брест-Литовского мира, занимавший, как и Лев Давыдович, позицию «ни мира, ни войны», – мы докладывали об этом в штаб фронта. Политработники отказываются идти работать в его отряды.
– Он не признает никаких рангов и приказов, – осторожно добавил Андрей Сергеевич Бубнов.
Лицо Троцкого потемнело. Вот что больше всего его раздражало: амбиции этих выходцев из народа, возомнивших себя боевыми командирами.
– Существование наряду с частями Красной армии отрядов с особой организацией и задачами совершенно недопустимо.
– Что же теперь делать? – робко повторил вопрос Раковский.
– Объявить Махно врагом революции и бросить на его уничтожение все силы Красной армии.
В комнате повисла тишина. Раковский и бывшие в постоянной переписке с Махно командующий Украинским фронтом Антонов-Овсеенко и начальник 1-й Заднепровской дивизии Дыбенко понимали безумие этой затеи, грозившей провалить фронт на Донецком участке. Вся 2-я Украинская армия состояла из бригады Махно и, чтобы ее ликвидировать, нужны были удвоенные силы, то есть две, а то и три дивизии.
По иронии судьбы, четыре дня спустя, не зная о заседании Совета обороны, командующий 2-й армии Скачко издал приказ о переформировании разросшейся бригады Махно в дивизию, сам Махно был утвержден в должности комдива. Узнав об этом решении, Троцкий пришел в ярость. В штаб 2-й армии была отправлена телеграмма: «Развертывать непокорную, недисциплинированную бригаду в дивизию под тем же командованием есть либо предательство, либо сумасшествие».
Действуя в интересах фронта и еще не сталкиваясь с деспотизмом Троцкого, Скачко послал в штаб фронта ответ, в котором обосновывал свои действия: он верил в Махно и его искреннее желание изгнать врагов с территории родной Украины. Не имея оружия и боеприпасов, его армия в течение четырех месяцев сдерживала в Донецком районе упорное наступление громадных, хорошо обученных военных частей Добровольческой армии, и те не могли развить свое наступление дальше, на Киев и Москву.
Вместо того чтобы помочь махновцам оружием и резервными частями, Троцкий повел свою гнусную политику их уничтожения. Махно обвиняли в измене и разложении фронта, издевательствах над красноармейцами, мародерстве, антисоветской деятельности, массовых еврейских погромах. Особенно в этом старалась советская печать, упорно называя махновское движение кулацким, его лозунги – контрреволюционными, его действия – вредными для революции.
В харьковских “Известиях” – органе городского Совета рабочих и крестьянских депутатов, появилась статья “Долой Махновщину!” Статья была передовой, без подписи, следовательно, выражала мнение редакции и стоящими за ней ее «хозяевами» – большевиками. Пропитанные ненавистью к повстанческому движению, авторы крайне сожалели о том, что украинские народные массы попали под влияние Махно и его товарищей анархистов, призывали к уничтожению батьки, опасного и коварного врага.
Снабжение армии снарядами и патронами резко сократилось. Большевики, которых никто не звал на Украину, принесли с собой еще большую опасность, чем контрреволюционные силы, с которыми до сих пор боролись крестьяне-повстанцы.
Неожиданно в Харьков из Гуляй-поля приехали Арон Барон и Михаил Уралов, тоже член секретариата «Набат», работавший у Махно в культпросвете. Им поручили узнать, что случилось с товарищами, выехавшими в Харьков две недели назад для переговоров с Раковским и украинским Советом обороны по поводу сложившейся нездоровой обстановки вокруг Повстанческой армии. С тех пор от них не было никаких известий, несмотря на постоянные запросы по телефону со стороны Махно и РВС.
Друзья рассказали Николаю об ужасах, которые творят повсюду ЧК и советская власть. Ежедневно к Махно стекаются сотни людей, бегущих от действий продотрядов и местных коммунистов, просят защитить их от большевиков.
– Они и нам здесь жить не дают, – угрюмо сказал Николай. – Местная ЧК зверствует не хуже, чем в Москве.
– Сейчас здесь в качестве чрезвычайного уполномоченного Совета Труда и Обороны России находится Лев Борисович Каменев. С ним приехало другое начальство, есть там зам. наркома труда Моисей Аристов. Волин сказал, что это – твой хороший знакомый по Женеве. Ты должен с ним связаться, выяснить насчет ребят и попросить его помощи.
Николай резко покачал головой.
– Сева прекрасно знает, что мы с ним разошлись еще во время войны и с тех пор не общались. У меня нет желания с ним встречаться.
– Считай, что это не просьба, а приказ… самого Махно, речь идет о наших товарищах. Какие тут могут быть обиды!
– Причем тут обиды, – вспылил Николай, – он нас предал, меня, Лизу. Работал почти год в Павлоградском совете и, зная, что я на Украине, ни разу со мной не связался ни здесь, ни в Ромнах.
– Все это так, Коля, но сейчас забудь об этом. Каменев каждый день проводит заседания у Раковского. Давай отправляйся в Совнарком и разыщи этого Аристова.
– Арест – дело рук Троцкого или Покко. Моисей тоже ничего не сможет сделать.
– Он – из московского центра, повыше, чем наши украинские товарищи.
– Говорю вам, что тут замешан Троцкий, – упирался Николай, которому страшно не хотелось идти к Моисею, будь даже это товарищеская просьба или приказ самого Махно.
– Пусть Троцкий, но попытка не пытка. От решения этого вопроса будут зависеть наши дальнейшие планы.
Барон давил на него, как танк. Поняв, что спорить с ним бесполезно, Николай отправился разыскивать Аристова.
На заседания комиссии Раковский по просьбе Каменева собирал в Совнаркоме массу народа: ответственных партийных и хозяйственных работников, специалистов, ученых. Их документы при входе внимательно изучали милиционеры и красноармейцы. Пройти внутрь постороннему человеку без заранее заказанного пропуска было невозможно. Вдоль всей улицы стояли автомобили. Один из них ждал Аристова. Николай решил караулить Моисея около машин, время от времени отходя в сторону, чтобы не привлекать внимания водителей и стражей порядка.
Совещание кончилось в восемь вечера; основной народ разошелся, а высокое начальство все еще заседало. Наконец, продолжая что-то обсуждать на ходу, появились Христиан Раковский и Георгий Пятаков (брат убитого Леонида Пятакова). Раковский – плотный, широкоплечий болгарин с красивым лицом, Пятаков – точная копия Троцкого, такой же черный, лохматый в очках.
Вскоре показался Аристов. В руках у него, как у всех нынешних начальников, был толстый кожаный портфель с металлическим замком и серебряной пластинкой с дарственной надписью.
Сделав над собой усилие, Николай окликнул его по имени. Моисей остановился, удивленно посмотрел на него, и лицо его осветилось улыбкой.
– Коля, – радостно воскликнул он, – наконец-то, мы встретились. Ты с совещания?
– Нет.
– Тогда едем ко мне в гостиницу, тут недалеко, – и не дожидаясь ответа, подтолкнул Николая к машине.
Московскому гостю выделили люксовый номер с несколькими комнатами.
– Это все тебе одному? – изумился Николай, разглядывая шикарные апартаменты.
– Я не выбираю, – смутился Моисей, – беру то, что мне предлагают. Да если и попрошу что-нибудь скромней, меня не поймут. Руководителям моего ранга положены комфортные условия. Сейчас мы с тобой выпьем за встречу, я только сделаю заказ.
Пока Моисей давал распоряжение официанту из ресторана, Николай подошел к столу, где стояла рамка с фотографией Полины и Маши на фоне Триумфальной арки в Париже. Полина – в белом меховом манто и черной шляпе – шикарная европейская дама. Маше здесь лет 10, копия матери.
Подошел Моисей.
– Ну, как тебе мои женщины? Всегда вожу с собой их фотографию.
– Встретил бы Полину на улице, не узнал. Чем она сейчас занимается?
– Работает по профсоюзной линии. У нас есть еще сын Алексей, родился в Цюрихе перед самой войной. А ты как: женился или по-прежнему один?
– Мы снова вместе с Лизой, у нас двое детей. Я думал, ты обо мне все знаешь.
– Откуда?
– От наших общих друзей. Я лично знал, что ты сошелся с большевиками, возглавлял в Павлограде Совет депутатов и недавно переведен в Москву на высокую должность. Знал и о твоем приезде на этот съезд.
– Так наша встреча не случайна?
– Товарищи попросили меня поговорить с тобой насчет делегатов от штаба Махно, помочь их освободить. Я сейчас работаю в КАУ «Набат» и связан с Повстанческой армией.
В дверь постучали. Вошел официант, везя перед собой тележку с едой, шампанским и бутылкой вина.
– Куда можно поставить? – спросил он, растягивая рот в подобострастной улыбке.
– Поставьте на стол и откройте шампанское.
– Давай сначала выпьем за нашу встречу, – сказал Моисей, когда они остались одни. – Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Можешь не верить, но я постоянно думал о вас с Лизой. Вы были и есть для меня лучшие друзья, даже нет, самые близкие, родные люди. Мы с Полей никогда не забываем, что вы для нас сделали.
– Хорошо, а что ты сможешь сделать для наших делегатов? – прервал его красноречие Николай. Все, что говорил Моисей, казалось ему наигранным, фальшивым. Этот человек не имел ничего общего с его другом из пансиона мадам Ващенковой.
– Они… – Моисей запнулся, – они расстреляны три дня назад как контрреволюционеры…
– И ты поверил этой чепухе, – взорвался Николай. – Какие они контрреволюционеры, если представляли штаб армии, защищающей сейчас самый ответственный участок фронта? Как ты вообще можешь с ними работать, с Троцким, этим обер-жандармом, Дзержинским, Лацисом? Им наплевать на народ, на то, что завтра Деникин займет всю Украину.
– Не могу с тобой согласиться. Больше того, скажу, что мне самому сейчас кажется опасной для революции работа, которую ведут анархисты в Повстанческой армии и среди населения. Они восстанавливают людей против советской власти, призывают к самоорганизации, недопустимой в военное время. Все попытки рабочих в России, да и здесь, на Украине управлять производством и контролировать администрацию окончились развалом промышленности и экономики.
– Это вы так думаете. А я могу тебе привести много примеров удачного хозяйствования со стороны рабочих. И если бы им дали возможность продолжить свою работу, то промышленность бы быстро возродилась. Вы им помешали, боясь, что ваш Совнарком и все чиновничьи учреждения останутся не у дел.
– Коля, ты столько лет проработал на производстве, прекрасно знаешь, что управлять им могут только специалисты и администрация. Не обманывай сам себя.
– Насколько мне помнится, в Женеве вы все и ты лично убеждали меня в обратном. Теперь, выбившись в начальство, ты заговорил иначе.
– Хочешь меня оскорбить, а зря. Я три года работал в Дуэ на химическом заводе, за это время многое пересмотрел в своих взглядах, как и ты. Здесь положение дел на заводах и шахтах находится на грани катастрофы. Анархистская пропаганда ее еще больше усугубляет.
– У большевиков вошло в привычку все сваливать на других: в промышленности, продовольственном вопросе, военных действиях. В настоящий момент повстанцы практически одни голыми руками сдерживают фронт, и, вместо того, чтобы оказать им помощь, их расстреливают. Наши товарищи приехали в Харьков объясниться с Троцким или Раковским. Нельзя нормально воевать, когда высшее командование и правительство тебе не доверяют.
– Вчера Антонов-Овсеенко делал доклад у Раковского о положении дел на вашем фронте. Из-за восстания Григорьева правительство вынуждено предпринять чрезвычайные меры, перебросив сюда части Красной армии с других участков. Ленин очень обеспокоен этой ситуацией. Решено ознакомиться с настроем Махно и, может быть, изменить к нему отношение. Завтра на встречу с ним выезжает Каменев. Я думаю, Лев Борисович во всем разберется.
– После того, как в Харькове убили людей Махно… Ты тоже едешь?
– Нет. Я должен вернуться в Москву. Давайте с Лизой тоже туда перебирайтесь, я вам помогу с жилплощадью. Есть идея открыть Институт научной организации труда. Знаешь, кто там будет директором? Поэт Алексей Капитонович Гастев. Он серьезно занимается этим вопросом. Ты со своим производственным опытом мог бы стать его правой рукой или возглавить в нашем наркомате какой-нибудь отдел.
– Спасибо за предложение, но я не люблю кабинетную работу. Гастев говоришь? – усмехнулся Николай, вспомнив о нем разговор с Шарлем Готье в Париже. – Да… интересная личность. Сочинял стихи, а теперь взялся за научную организацию труда…
– У него достаточный опыт работы. Сейчас каждый может проявить свои способности. Ты тоже подумай над моим предложением. Я оставлю свои телефоны и адрес в Москве. Мы должны держаться друг друга.
Несмотря на откровенно вызывающий тон Николая во время всей встречи, расстались они дружелюбно. По секрету Моисей сообщил ему, что Ленин недоволен делами на Украинском фронте, собирается сменить всю его верхушку. Придут люди, которые поведут более жесткую политику к повстанцам, чем Антонов-Овсеенко и Скачко.
ГЛАВА 2
Известие о расстреле махновских делегатов привело Арона Барона в бешенство. Он предложил немедленно организовать теракт, взорвать здание Украинского правительства, а Троцкого, Раковского и Пятакова ликвидировать как предателей революции (Николай сразу вспомнил об убийстве в Харькове Пушкаря и Кабанца). Бегая по комнате из угла в угол, он кричал и размахивал руками, строя грандиозные планы мщения. Его еле-еле успокоили, сославшись на решение Ленина послать к Махно для урегулирования отношений с ним и его армией Каменева. Друзья заторопились обратно в штаб. Николай решил ехать с ними, ему тоже интересно было побывать на этой встрече, а заодно пообщаться с Махно, которого он давно не видел. Оставалось выяснить, где будет проходить эта встреча: в Мариуполе, где сейчас находился полевой штаб 3-й бригады, или в Гуляй-поле?
Знакомые железнодорожники сказали, что Каменев решил побывать в Гуляй-поле, и Махно туда скоро выезжает. Те же товарищи устроили их на поезд, в котором ехали Каменев и сопровождавшие его лица: член Военного совета Южного фронта Клим Ворошилов и работник ЦК ВКП(б) Матвей Муранов.
У Чрезвычайного уполномоченного Совета обороны, как и у Троцкого, был обустроенный вагон, своя кухня, повара, многочисленная обслуга из военных и гражданских лиц, усиленная охрана с пушками и пулеметами. На станциях высокого гостя встречало местное начальство, девушки в национальной одежде подносили ему хлеб-соль, корзины с продуктами (салом, пирогами, фруктами). Пожав товарищам руки, он быстро уходил обратно, оставляя на перроне все приношения. Иногда вместо него появлялся Ворошилов. Этот был свой человек – бывший рабочий из Луганска. Климент Ефремович беседовал с людьми, с удовольствием забирал у девушек хлеб-соль и корзины с едой.
Каменев был во френче, брюках-галифе и пенсне. Смотря на него из окна, Николай не мог избавиться от мысли, что он вместе с Зиновьевым выступил против октябрьского вооруженного переворота, дал об этом интервью «Новой газете», тем самым выдав планы большевиков. Ленин, который никогда никого не прощал, не только его простил, но сделал Каменева первым председателем ВЦИК, затем отправил его вместе с Троцким на мирные переговоры в Брест-Литовск, успешно провалившиеся, теперь прислал на Украину решать продовольственные вопросы, и заодно разобраться с Махно и его армией. Что он может полезного сказать повстанцам, если никогда не держал в руках винтовку и не имеет понятия о военном искусстве так же, как Раковский и Пятаков, да и сам Троцкий? Ворошилов, Скачко – те хоть воевали, имеют опыт, а у этих только один козырь – власть, дающая им право распоряжаться судьбами сотен тысяч людей.
В Гуляй-поле поезд встречали Маруся Нефедова, адъютант Махно Михалев-Павленко, члены штаба Повстанческой армии – Борис Веретельников и Бурбыга. Самого Махно еще не было. Все окружили высокого гостя. Тот, помня о своей ответственной миссии установить с махновцами диалог, начал их усиленно расхваливать.
– Ваши повстанцы – герои, – сказал он, почему-то обращаясь к Марусе Нефедовой, – они прогнали немцев, помещика Скоропадского, теперь храбро дерутся со Шкуро, помогли нам взять Мариуполь.
– Не помогли, а сами взяли, – недовольно буркнул Веретельников. Ему не нравился этот визит и весь этот фальшивый разговор. Большевики явно затеяли какую-то непонятную игру.
– Конечно, взяли, – поспешил исправить свою оплошность Каменев. – Вы делаете великое дело для революции, защищая ее от врагов советской власти. – Тут он вспомнил о папке, которую ему вручил перед отъездом начальник харьковской ЧК Покко. В ней лежали многочисленные жалобы на махновцев. – Однако есть к вам и претензии. На днях ваши части реквизировали несколько вагонов хлеба, предназначенного для голодающих рабочих.
– Вас дезинформировали. Этот хлеб отнимают у голодающих крестьян чекисты. Они расстреливают их направо и налево. Мы же наводим справедливость. Каждую неделю отсюда, из Гуляй-поля, и других мест уезда в Москву и Питер уходят вагоны с хлебом и продуктами.
– За что расстреляли наших представителей в Харькове? – неожиданно вмешался в разговор Барон; они с Николаем Даниленко выдвинулись в первые ряды.
Каменев сделал удивленное лицо.
– Первый раз об этом слышу. Возможно, это какое-то недоразумение, вернусь в Харьков, обязательно разберусь, – и чтобы прервать неловкое молчание, обратился к Павленко. – А что генерал Шкуро, действительно, сильный противник?
– О, да! Его части великолепно организованы, идут в атаку колоннами с пением. Но куда этому генералу до Нестора Ивановича? Деникин назначил за его голову полмиллиона рублей.
– Шкуро-то осилить можно, – сказал Бурбыга, – только подкиньте нам оружие и боеприпасы. Наш смертельный враг – председатель александровского Совета Аверин. Распускает про нас разные слухи. Вы, товарищ уполномоченный, ему не верьте, и там, в Москве доложите об этом Ленину.
– А как быть с фактами, что вы устраиваете еврейские погромы, грабите дома, магазины? – вступил в разговор Ворошилов, бывший одно время наркомом внутренних дел Украины. – Аверин может клеветать, но об этом есть и другие свидетельства. Как нам известно, товарищ Нефедова, по вашему приказу в Харькове средь бела дня были опустошены все лавки дамского белья. Позвольте узнать, для кого оно предназначалось?
Все заулыбались. Маруся покраснела.
– Стоит ли говорить о такой мелочи, товарищ комдив, когда есть вопросы поважней, – сказала она, кокетливо улыбаясь Ворошилову.
Этот человек спутал ей все карты. Пользуясь случаем, она хотела попросить Каменева похлопотать в Москве о сокращении срока ее условного наказания и отправиться на фронт. К тому же у самого Ворошилова рыльце было в пушку. Как-то «Набат» описал визит Климента Ефремовича в Астрахань, где он появился в шикарном экипаже, запряженном шестеркой лошадей. За ним ехали десять повозок с солдатами и около пятидесяти подвод с сундуками, бочками и всякой всячиной. Всем известно, что во время таких наездов местные жители вынуждены исполнять все прихоти начальства.
– Погромы и мародерство надо строго пресекать. Для этого и созданы чрезвычайные комиссии.
– Нет, товарищ комдив, – сказал Николай, – для тех, кто совершает преступления, есть законы и суд, в крайнем случае – трибунал, а ЧК расстреливает людей без суда и следствия, из-за этого гибнут невинные люди… Почему чекисты имеют неограниченные права и их никто не контролирует?
– В военное время, когда речь идет о вредительстве или саботаже, суд может быть только один – расстрел на месте преступления. Ваши товарищи в этом особенно отличаются.
– Ваши тоже хороши, – сказал Барон. – Кавалеристы под Веденевкой расстреляли мирных жителей за то, что они отказались дать им свежих лошадей.
Разговор принимал неприятный оборот, но тут появился локомотив с одним вагоном – это был Махно. Состав специально задержали, чтобы показать Каменеву, как повстанцы встречают своего командира.
Как только Нестор Иванович показался в дверях вагона, грянул оркестр, неизвестно откуда взявшийся, видимо, незаметно прибыл из села. Из другой двери вагона выскочили командиры и бойцы, составив за считанные секунды почетный караул. Махно направился к Каменеву. Одет он был в бурку, генеральскую папаху, при сабле и револьвере. Приложив руку к папахе, громко отчеканил: «Комбриг батько Махно. Прибыл с фронта».
Каменев с любопытством рассматривал маленького человечка в высокой папахе, из-под которой по бокам свисали длинные кудри. Острые глаза, как шипы, пронзили его насквозь. Было что-то неприятное и враждебное в этом взгляде и во всем его облике. Махно в свою очередь пытался разгадать в глазах московского гостя намерения, с какими тот сюда прибыл, и что скрывалось за его наигранной улыбкой. Опытным взглядом военного человека он заметил, что френч на том сидит кое-как, ворот расстегнут, открывая белую рубаху с потертым воротником.
Подъехали машины (трофейные, взятые у немцев в бою) и увезли начальство. Остальных ждали повозки. Веретельников успел шепнуть Нестору, что приехали «набатовцы» из Харькова с известием о расстреле посланной туда группы.
– Когда это случилось?
– Четыре дня назад.
– Что еще удалось выяснить?
– Большевики чувствуют свое бессилие на деникинском фронте, рассчитывают на нашу помощь.
– О-ч-чень хорошо. Попробуем поговорить с Каменевым о нашем тяжелом положении, получить, наконец, оружие и деньги.
С Махно приехали Волин, Аршинов и еще несколько человек из культпросвета. Все они уселись в повозку со знакомым Николаю бородатым возницей Федором, тем, что вез их в прошлый раз со станции. Как каждый махновец, он был политически образован, считая своим долгом выразить товарищам «набатовцам» свое отношение к приезду Каменева.
– Хитрое же это отродье, большевики, – деловито рассуждал он, охаживая кнутом бока лошади, – то батьку грязью поливали, а то в гости зачастили (незадолго перед этим в Гуляй-Поле приезжал командующий Украинским фронтом Антонов-Овсеенко). Батько-то добрый, он за революцию душой болеет, а то этих бы чертовых бисов всех перестрелять вместе с Троцким и отправить багажом в Кремль к Ленину.
– Ты это зря, Федор, мы же не бандиты, – охладил его пыл Аршинов.
– Як с ними можно мириться, товарищ Аршинов, когда они наших людей губят? Мы к ним с душой, а они к нам с кинжалом, як проклятые басурманы.
– Тут, друг мой, нужна особая дипломатия.
Николай сидел рядом с Федором и в разговоре не участвовал. У него еще в поезде разболелась голова, ломило кости, как обычно бывает при сильной простуде. Он спросил Барона, у кого он сможет остановиться. «Конечно, у нас. Только до этого далеко: Павленко сказал, что запланировано много мероприятий, концерт, спектакль, обед у Махно».
– Что-то у меня голова разболелась… Хорошо бы таблетку достать…
– Сейчас приедем, что-нибудь придумаем. Или Федора попросим съездить ко мне домой. Съездишь Федор? И чемоданы отвезешь.
– А чего ж не съездить? Съезжу, лучше, чем на этого приезжего гуся смотреть.
Въехав в село, они услышали громкое «Ура». Это на центральной площади повстанцы приветствовали своего командира и гостей. Со всех сторон туда стекались люди. Федор высадил анархистов и уехал за таблетками.
Первым на трибуну поднялся Махно и произнес речь о неразрывности судеб украинских повстанцев и российских трудовых братьев.
– Вместе мы отстоим нашу землю от деникинцев, – сказал он. – У нас с Красной армией одна цель.
По толпе прошел одобрительный гул. Большевикам давно никто не верил, но раз батько так говорит, значит, так нужно. Не зря сюда приехали высокие гости. «Добро, батько, говори, говори, – невольно думал каждый присутствовавший тут повстанец, – чтобы перестали на нас лить свою подлую большевистскую грязь, дали пушки и пулеметы».
Каменев угрюмо рассматривал толпу, напоминавшую ему своей пестрой одеждой казаков Запорожской сечи со знаменитой картины Репина. Встреча Махно на станции с оркестром и почетным караулом вызвала у него раздражение. Ему хотелось как следует отчитать этого самоуверенного батьку, а заодно с ним и людей, затеявших на станции провокационный спор с Ворошиловым, но, помня о миссии, возложенной на него Владимиром Ильичом, вынужден был подавить свое раздражение. Поприветствовав “доблестных повстанцев” от имени Советского правительства, российских рабочих и крестьян, он долго говорил о подвигах махновцев, сумевших освободиться от австро-венгерских войск и гетманцев. Ни намека на отрицательное отношение властей к Махно и его контрреволюционным частям.
– Я уверен, – сказал он, обводя взглядом притихшую толпу, – что славные повстанцы товарища Махно пойдут вместе с Красной Армией против врага трудящихся – Деникина, будут бороться в ее рядах до полного торжества дела рабочих и крестьян.
– Тамбовский волк тебе товарищ, – зло прошептал Арон, сжав кулаки. – Думает, им сойдет с рук убийство наших ребят. Нет, шалите, друзья, за убийство надо платить убийством.
– Надо намекнуть Леве, – поддержал его Веретельников, – чтобы взорвали харьковскую ЧК вместе с Покко. Сколько они уже наших людей погубили. Заодно посетили бы и Екатеринослав.
– Товарищ Даниленко, – громко окликнул Николая появившийся возница Федор. – Привез вам таблетки и бутылку с водой. Фанни Анисимовна велели немедленно ехать к ним. Вам надо в постель.
– Тише, Федор, – смутился Николай, – я же не маленький. Сейчас проглочу таблетку, и все пройдет.
От таблетки толку было мало. Через полчаса он выпил еще одну, но и она не подействовала: голова трещала, перед глазами все плыло, била лихорадка, как будто к его телу приставили провод с электричеством. В этот момент им предложили пройти в штаб для совещания с Каменевым. Он с трудом дошел до крыльца и, как старик, опираясь на перила, медленно поднимался по ступеням. Теперь болели не только ноги, но и спина.
– Коля, что с тобой? – озабоченно спросил Барон. – Ты бледный, как полотно. Голова все болит?
– Не обращайте внимания. Сейчас пройдет.
Все расселись за столом, поставленным буквой «П». Махно заметно нервничал, чувствуя, что здесь, в более узком кругу, разговор будет не простой. При малейшем шуме и шепоте своих товарищей он угрожающе произносил: “Выведу!”
Каменев первый взял слово. Теперь его словно подменили. Поздравив еще раз махновцев с успехом на фронте, он перешел к их резкой критике, собрав все в один клубок: продовольствие, транспорт, военное дело, самочинные съезды, мобилизацию в Повстанческую армию. Говорил об отсутствии в районе комбедов, спекуляции и преследовании коммунистов, которые, являются защитниками трудового народа и беднейшего крестьянства.
За столом зашумели, посыпались возмущенные реплики. Махно встал, но и он не в силах был заставить людей молчать.
– Хотите деревню разорить, а потом любить, – крикнул кто-то со злостью. – Народ вам не верит.
– Мы – простые крестьяне, а вы нас оставляете без хлеба, да еще называете кулаками.
– Долго будете нас в газетах травить, мы кровь проливаем, а вы нас в контру записали?
Чрезвычайный уполномоченный Совета Труда и Обороны России с трудом сдерживал себя, чтобы не взорваться. Реплики мужиков вывели его из себя.
– Все факты соответствуют истине, – сказал он, стараясь перекричать голоса. – Товарищи партийцы жалуются, что нет никакой возможности работать в вашем районе.
Из-за стола поднялся зам. председателя Гуляй-польского Совета депутатов Моисей Коган.
– Лев Борисович, я как ответственное лицо тоже хочу спросить вас: зачем большевики организуют постыдную травлю нашего революционного движения и наших действий? Ведь это мелко и гадко, подрывает ваш же авторитет.
Он потряс в воздухе бумагами.
– Только что из Александровска нами перехвачены провокационные телефонограммы, отосланные в адрес транспортного отдела Губчека Харькова. В одной из них власти сообщают, что сегодня, то есть в этот самый момент, когда вы тут у нас находитесь, сформировавшаяся двухтысячная банда махновцев с пулеметами и орудиями идет на Александровск. Следом за этой телеграммой председатель Совета Аверин шлет другую: «Банды движутся. В городе Александровске мобилизованы все коммунисты, стоим на страже. Сегодня вечером выезжаю на мотодрезине по направлению Полога сам для более точного выяснения. Все это доношу для сведения, ждем зависящих от вас распоряжений…», – закончил чтение Коган и положил перед Каменевым телефонограммы.
– Вот так, товарищ уполномоченный, на нас клевещут и в остальных вопросах. Все, что вы здесь говорили о комбедах, спекуляции и преследовании коммунистов, сплошная ложь.
Раздались аплодисменты. Подняв руку, чтобы восстановить тишину, Махно не мог сдержать довольной улыбки. Лев Борисович скривил губы и отмахнулся от телеграмм, как от надоевших мух: «Да не обращайте на них внимания!» Однако на этом критика махновцев не кончилась. Каменев поднял вопрос о районном Военно-революционном Совете.
– Существование такого совета при советской власти абсолютно недопустимо, – заявил он, – его надо срочно распустить.
Махно заерзал на стуле. Глаза его вспыхнули, не предвещая ничего хорошего. Несколько минут он и Лев Борисович молча смотрели друг на друга. Рука Нестора медленно поползла к кобуре. В зале наступила тишина. Тут со своего места поднялся Волин.
– Позвольте мне сказать, – обратился он к гостю. – Моя фамилия Волин, я являюсь членом того самого Реввоенсовета, о котором вы только что здесь говорили, и членом секретариата конфедерации анархистов «Набат».
– А-а-а – протянул Каменев, вздохнув с облегчением, что обстановка разрядилась, – мозговой центр движения.
– Некоторое время назад, – продолжал Сева, не обращая внимания на эту реплику, – комдив Дыбенко запретил нам проводить очередной, третий съезд РВС. Мы дали по этому поводу обстоятельное разъяснение в газетах ему и другим большевистским руководителям. Вам тоже, наверное, будет интересно узнать, что наш Ревсовет был создан по решению съезда 12 февраля здесь же, в Гуляй-поле с целью организовать фронтовиков и провести добровольную мобилизацию для борьбы с германцами и гетманщиной. Советских войск в нашем районе тогда не было, население могло рассчитывать только на себя.
– Ваши советы восстанавливают народ против советской власти, наносят ей непоправимый урон, служащий на руку контрреволюции, – вставил Каменев.
– Позвольте вам заметить, товарищ уполномоченный Совета обороны, – сказал Всеволод с некоторой издевкой, нажимая на «товарищ уполномоченный», – армия Махно еще до появления здесь Красной армии выгнала австрийцев, разбила войска гетмана, Петлюры и сейчас фактически одна сдерживает на огромном участке фронта войска Деникина. Все это было организовано нашим РВС. Ваши части шли на Украине по местам, освобожденным до их появления повстанцами, неся минимум потерь. Так не мешайте нам и дальше бороться с врагами революции.
Волин опустился на стул.
– Ты замечательно выступил, – сказал ему Николай, пожимая руку, – говорю тебе искренне, как близкий товарищ.
– Он такой же дундук, как Шляпников. Зачем Ленин их держит?
Поднялся Махно. К выступлению Волина трудно было что-либо добавить, тот достойно ответил Каменеву, но и Нестору нужно было что-то сказать; люди ждали от него слова.
– Товарищи-большевики упрекают нас, что мы не занимаемся социальными вопросами на территориях, которые освобождаем, – сказал он, и в глазах его вспыхнули огоньки. – Но для этого у нас пока нет ни времени, ни сил. Этим мы займемся, когда окончится война, но наши Советы, в отличие от большевистских, позволяют быстро решать на местах все вопросы и так, как это нужно самому народу, а не тем, кто дает ему указания из Москвы или Харькова.
Устав от речей, Лев Борисович слушал плохо. Ему было ясно: махновцев трудно переубедить, они уверены в своей правоте. Троцкий взял верный курс на их ликвидацию, но не сейчас. Они готовы защищать советскую власть и сдерживать наступление Деникина, это в данный момент главное. Об этом он завтра же доложит Ленину. Со своей стороны он пообещал им помочь оружием и всем необходимым для армии.
Каменев торопился уехать; намеченная культурная программа, чтобы показать московскому гостю, чем еще живут бойцы, кроме войны, его не заинтересовала. После обеда в узком кругу у Махно все вышли проводить гостя. Сам Махно оставался в селе, сославшись на то, что до отъезда на фронт ему надо провести совещание в штабе. Лев Борисович тепло расцеловался с ним, уверяя, что с махновцами, как с подлинными революционерами, у большевиков всегда найдется общий язык, они должны быть вместе. Махно был бы рад ему поверить, да, как говорят в народе, на языке у этого человека медок, а на уме – ледок.
Как только автомобили с уполномоченным и его свитой скрылись, Махно снова пригласил весь актив к себе в дом:
– Теперь можно расслабиться, выпьем от души, – сказал он, довольно потирая руки, – потом проведем совещание и – обратно в Мариуполь. Разговор получился полезный, только Троцкого вряд ли кто сумеет переубедить в его политике против нас. Этих бы двух Львов на передовую, поближе к Шкуро, тогда бы они по-другому заговорили, а то смотрят на мир из своих царских вагонов. А ты что такой смурный, – заметил он Николая, – болеешь?
– Есть немного, в дороге простыл…
– Сейчас мы тебя быстро вылечим. Стакан горилки – и все, как рукой, снимет.
Николай натянуто улыбнулся, что-то с ним творилось неладное: ему было совсем худо. Нестор подозвал своего ординарца Лютого.
– Исидор, отведи товарища в другую комнату и пошли за врачом. Что-то он мне не нравится.
– Не надо врача, – запротестовал Николай, – сейчас все пройдет.
– Ну, если так, то идем за стол.
Николай шагнул в горницу. Увидел стол, накрытый белой скатертью и уставленный всякими яствами, улыбающуюся Галину – жену Махно, и вдруг все куда-то поплыло, ноги подкосились. Пытаясь схватиться за косяк двери, он протянул руку и медленно сполз вниз.
ГЛАВА 3
У Николая оказался сыпной тиф, сразивший уже половину махновской армии. Несколько дней он находился без памяти. Главный врач госпиталя Иван Яковлевич Ковтун (по образованию стоматолог, а ныне, из-за отсутствия в селе специалистов, назначенный штабом РВС лечить тифозных) сказал Марусе Нефедовой, опекавшей больного, что у него нет шансов выжить. Маруся, презрев все постановления большевиков, собиралась ехать на фронт и отправила в Ромны телеграмму, вызвавшую там переполох. Лиза и Елена Ивановна решили немедленно ехать к нему. Марфе стоило немало усилий отговорить их от этой поездки и самой отправиться в Гуляй-поле.
Тифозные лежали в отдельном здании, откуда за версту несло карболкой. Туда Марфу не пустили. Дождавшись, когда Ковтун выйдет на улицу, она устроила ему скандал, заявив, что тифа не боится, и сама будет ухаживать за больным Даниленко. Ковтун впервые видел человека, который добровольно выразил желание ухаживать за тифозными. Похоже, эта «горластая» тетка не имела представления о самой болезни. Ее настойчивость была очень кстати: в госпитале не хватало медперсонала.
– У меня нет людей, – сказал он. – Я могу взять вас в качестве санитарки. Будете за всеми ухаживать, мыть полы, кормить больных, выносить судна. И обязательно соблюдать меры предосторожности, это, как я вам сказал, чрезвычайно опасная болезнь.
– Все исполню, – заверила его Марфа, готовая на любую работу, лишь бы попасть в палату Николая: она была уверена, что обязательно поставит его на ноги.
Ей сделали укол от тифа, выдали одежду и марлевую повязку на лицо. В палате она первым делом установила привезенные с собой иконы Христа Спасителя, Божией Матери, Николая Чудотворца и Святого целителя Пантелеймона, окропила помещение святой водой. Случайно заглянув туда в это время, изумленный Ковтун увидел, как она ходит между кроватями с марлевой повязкой на лице и со свечой, осеняя больных, лежащих без памяти, крестным знамением и читая вслух молитву: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, окроплением воды сея священныя в бегство …» Местные батюшки в эти палаты не ходили, да и кто бы их туда пустил.
Николай все еще был в забытье, часто бредил, кричал, размахивал руками и мотал головой по подушке, как будто его кто-то преследовал и терзал. «М-а-ма, ма-м-а, – звал он на помощь Елену Ивановну, – спасите меня, спас-и-те!». Марфа, не зная, чем ему помочь, держала больного за руки, усиленно крестилась и читала молитвы, прогоняя мучивших его бесов. Иногда у него случались сильные судороги и конвульсии, лицо принимало мученическое выражение. Марфе становилось страшно.
– Пить, дайте мне пить, – прошептал он однажды, приподнимая голову, чтобы оглядеться вокруг. Все утопало в тумане, но в этом тумане он услышал звуки: голоса, стоны, крики и почему-то голос скрипки. Кто-то назойливо водил смычком, извлекая из струн один и тот же режущий, монотонный и раздражающий его звук, как будто ковыряли ножом открытую рану.
– Коленька, это я – Марфа, – выплыло из тумана знакомое лицо, и он узнал Марфу, но не удивился ее присутствию тут, а спросил о том, что его тревожило и доставляло неприятность в данный момент.
– Марфа, кто это играет на скрипке? Нельзя ли сказать, чтобы прекратили.
– Сейчас, милый, сейчас, – засуетилась женщина, бросившись к открытой форточке. – Тут недалеко музыкальная школа, детки учатся. Теперь не слышно?
– Слышно, но не так. Дай мне пить, все во рту пересохло.
– Подожди, сейчас принесу, – сказала она, поспешно направляясь вниз за кипяченой водой. Соблюдая правила санитарии, Ковтун приказывал держать питье в закрытом помещении.
– Боже праведный! Очнулся, – шептала она, сбегая по ступенькам, как молоденькая девочка, – очнулся! – и слезы радости катились по ее щекам.
Когда она вернулась в палату, Николай лежал с закрытыми глазами. По ровному дыханию она поняла, что он спит, а не борется со своими бесами. С жалостью смотрела она на его голый череп, желтое лицо и провалившиеся щеки – оживший мертвец.
В госпиталь часто заходили Петр Аршинов и Арон Барон. Последний каждый раз грозил доктору, что, если Даниленко умрет, он его собственноручно расстреляет.
– Меня молодой человек, – угрюмо отвечал тот, – давно пора расстрелять, здесь каждый день умирают десятки людей. Побойтесь Бога, в чем тут моя вина: ведь я стоматолог, а не хирург и не инфекционист, лечу по наитию. У меня все кончается: лекарства, вата, бинты. Если завтра заболеют еще сто человек, я сам застрелюсь…
Как только Николай пришел в себя, жена Барона Фанни стала приносить ему бульоны, мясо, картошку – с продуктами в Гуляй-поле было хорошо. Марфа попросила ее отправить в Ромны телеграмму о том, что Николай пошел на поправку.
Но радость ее была преждевременной. Ковтун ее предупреждал, что организм Николая ослаб, болезнь может вернуться назад или из-за отсутствия иммунитета привяжется какая-нибудь другая инфекция. Что такое «иммунитет», Марфа не знала, но сердцем чувствовала, что за этим словом кроется что-то очень страшное и неминуемое. И оно пришло. На десятый день после наступившего улучшения вновь поднялась температура за сорок градусов, начался кашель. Температура держалась на этом уровне несколько дней, а кашель сделался почти непрерывным; болели суставы рук и ног, била сильная лихорадка. Николай опять впал в беспамятство, вернулись кошмары и галлюцинации.
Перепуганный Ковтун предположил, что его продуло из открытого окна, поставил диагноз: воспаление легких, и от греха подальше (и неуправляемого Барона) отправил его в другой госпиталь, где не было тифозных. Новая беда еще больше напугала Марфу: он и раньше страдал кашлем, но никогда не впадал в беспамятство. Однако она не собиралась сдаваться. Не доверяя врачам, дававшим ему какие-то порошки и микстуры, она попросила Фанни достать барсучий жир, мед, листья алоэ, какие-то травы и стала лечить больного домашними средствами. Когда он через две недели снова вернулся с того света, женщина заплакала от радости.
– Домой нам надо с тобой, Коленька, домой, иначе совсем тут пропадем, – сказала она ему, когда тот первый раз попросил есть.
– Марфушка, – Николай погладил ее морщинистую руку. – Ведь это еще не самое страшное, есть вещи куда хуже, – он хотел сказать о смерти Вани, но увидев, как сразу изменилось ее лицо, передумал.
– Ты это о чем? Говори, раз начал…
– Да это я так, уже забыл…
– Ничего, не печалься, потом вспомнишь. А я поговорю с врачом, пусть отпускает нас домой.
Николай сам хотел домой, но была такая слабость, что он не мог даже подняться с постели. От слабости было полное безразличие к тому, что происходит вокруг. Такое чувство, что внутри него все выгорело, осталась одна пустота, даже рассказы приходивших иногда друзей Арона и Петра о положении на фронте и притеснении махновцев большевиками не вызывали у него никаких эмоций.
– Что с ним такое происходит? – переглядывались друзья, пытаясь выяснить что-нибудь у лечащего врача. Тот успокаивал их, что такое поведение типично для тех, кто переболел тифом (врач не сомневался, что вместе с воспалением легких Даниленко еще раз переболел тифом) и долго находился без сознания. Они как бы возвращаются с того света, снова привыкая к жизни. Это пройдет.
ГЛАВА 4
Пока Николай находился в госпитале, и жизнь его висела на волоске, отношения между повстанцами и советской властью приняли трагический характер. Продолжая курс на уничтожение махновской армии, Троцкий опубликовал в своей дорожной газете «В пути» пасквиль под названием «Махновщина», где изощрялся в оскорблениях повстанцев и их командира.
«Армия» Махно – писал он, специально беря слово армия в кавычки, чтобы как можно больней уколоть махновцев, – это худший вид партизанщины… Продовольствие, обмундирование, боевые припасы захватываются, где попало, расходуются, как попало. Сражается эта «армия» тоже по вдохновению. Никаких приказов она не выполняет. Отдельные группы наступают, когда могут, т. е. когда нет серьезного сопротивления. А при первом крепком толчке неприятеля бросаются врассыпную, отдавая многочисленному врагу станции, города и военное имущество… Мыслимо ли допустить на территории Советской республики существование вооруженных банд, которые объединяются вокруг атаманов и батек, не признают воли рабочего класса, захватывают, что хотят, и воюют, как хотят? Нет, с этим анархо-кулацким развратом пора кончить, кончить твердо, раз навсегда, чтоб никому больше повадно не было!»
Его не останавливал даже тот факт, что армия Григорьева окончательно перешла на сторону Деникина и устроила в Екатеринославе мятеж.
Ленин и все военное руководство опасались, что Махно поддержит Григорьева, и обе их армии сольются с армией Деникина, уверенно продвигающейся на восток. Тревожные телеграммы летели от Скачко к Антонову-Овсеенко, от Антонова-Овсеенко – к Раковскому, от Раковского – в Москву, к Ленину, лично следившему за развитием этих событий. И, действительно, атаманы встретились, договорились объединить свои армии и подписали соглашение, по которому Григорьев становился командующим всеми вооруженными силами, а Махно – председателем Реввоенсовета.
Однако, разобравшись в причинах мятежа и действиях Григорьева – этого хитрого, честолюбивого и жестокого атамана, бывшего организатором массовых еврейских погромов, Махно в специальной листовке резко осудил «григорьевщину», самого атамана и отправил несколько эшелонов в Екатеринослав против мятежных войск. «Пока я, Махно, руковожу повстанцами, – писал он в своих листовках, – антисоветских действий не будет, будет беспощадная борьба с буржуйскими генералами». А спустя некоторое время в Москву пришла телеграмма за подписью Махно о том, что Григорьев убит махновцами: «Всем, всем, всем. Копия — Москва, Кремль. Нами убит известный атаман Григорьев…».
Казалось бы, это должно было снять с него все подозрения. Но только не в глазах Троцкого, расценившего поступок Махно как желание реабилитировать себя и поднять политические акции. Военком писал по этому поводу: «…Убийством Григорьева Махно, может быть, успокоил свою совесть, но своих преступлений перед Рабочей и Крестьянской Украиной Махно этим ещё не искупил…»
По его указанию изнуренное в непрерывных боях с войсками Шкуро повстанчество сознательно оставлялось без всякой помощи. Ряды его бойцов редели и редели. Чтобы как-то исправить положение, штаб махновской армии решил провести 15 июня в Гуляй-Поле съезд вольных Советов и объявить очередную мобилизацию. Узнав об этом, Троцкий забил тревогу: «Махновцы, – писал он в Москву, – созывают съезд нескольких уездов Гуляй-Поля с целью борьбы против коммунистической советской власти. Ясно, что в данных условиях съезд является открытой подготовкой мятежа в полосе фронта…»
Срочно выходит указ о запрещении съезда, аресте делегатов и передаче их в военно-революционный трибунал 14-й армии, возглавляемой Ворошиловым. Фактически этой армии поручалось разгромить махновцев. В свою очередь Климент Ефремович издает свой приказ № 1, в котором запрещает проводить какие-либо съезды в районе дислокации своих войск и под угрозой расстрела переходить его бойцам в дивизию Махно.
Четырнадцатая армия сама находилась в таком же плачевном состоянии, как и повстанцы. 13 июня Ворошилов пишет Раковскому в Харьков: «Дорогой Христиан Георгиевич! Я вам посылал телеграммы, в которых вопил о своем положении, прося Вас придти на помощь, но ни помощи, ни даже ответа на телеграммы не получил. Вкратце сообщаю состояние армии: 1) Армии, как организма, нет. Штабы и разные учреждения при армии это в лучшем случае толпа бездельников, а в худшем — пьяниц и саботажников. 2) В довольствующих органах ни снабжения, ни вооружения, ни обмундирования: части до смешного небольшие, разложившиеся, босые, с распухшими и окровавленными ногами, оборванные. Артиллерии никакой. Кавалерия не многочисленная, сильно напоминает своих предков из Запорожской сечи… Очень прошу Вас, Христиан Георгиевич, надавите на все педали, пусть нас снабдят винтовками, хотя бы австрийскими, патронов к которым в складах Киевского округа в достаточном количестве. В Киеве масса пушек. У Вас есть пулеметы. Во всей моей армии найдется пара десятков пулеметов… Прикажите, пожалуйста, в спешном порядке грузить необходимое нам вооружение и, если есть хотя малейшая возможность, пошлите обмундирование и обувь, без которых мы буквально задыхаемся».
Махновцам так и не удалось провести съезд. А Троцкий, как обезумевший охотник со своими верными борзыми, продолжал их преследовать и убивать. Вскоре последовали новые приказы: «Перебежчикам к Махно – расстрел!» и «Конец махновщине!» В них повстанцы объявлялись главными виновниками разгрома красного фронта. «Кто является виновником наших последних неудач на Южном фронте и в особенности в Донецком бассейне? – вопрошал военком в статьях и листовках и без зазрения совести указывал, – махновцы и махновщина… Махновские части оказались совершенно небоеспособными, и конные белогвардейцы гнали их перед собой, как стадо баранов».
Его слова были унизительны для Махно. Но обух плетью не перешибешь, тем более, что эта плеть представляет собой государство в лице необузданного властолюбца. И чтобы спасти положение, Нестор отказался от командования своей дивизией, о чем письменно известил Троцкого и все остальное начальство: Каменева, Ленина, Зиновьева, одновременно пытаясь призвать Льва Давыдовича (и всех остальных, кто участвует в этой грязной игре) к революционной совести.
«Я прекрасно понимаю отношение ко мне центральной власти, – писал он с горечью Троцкому. – Я абсолютно уверен, что эта власть считает повстанческое движение несовместимым с ее государственной деятельностью. Она полагает также, что это движение связано лично со мной… Это враждебное отношение – которое теперь становится агрессивным – центральной власти к повстанческому движению, неизбежно ведет к созданию внутреннего фронта, по обе стороны которого будут трудящиеся массы, верящие в революцию. Я считаю это величайшим, непростительным преступлением в отношении трудящихся и считаю своим долгом сделать все, чтобы избежать этого. Самое простое средство для центральных властей избежать этого преступления заключается, на мой взгляд, в следующем: нужно, чтобы я покинул свой пост…»
Махно оставил армию и с небольшим отрядом ушел на Херсонщину. В своем воззвании к повстанцам он просил их держать фронт «с прежней энергией, не смущаясь тем, что они временно будут находиться под командой большевистских штабов». Люди его поняли. Большая часть полков осталась на своих местах, встав под начало красного командования. Командиры уговорились ждать удобного момента, чтобы вновь объединиться под руководством своего атамана и вместе с ним продолжить освободительную борьбу.
Шесть с половиной месяцев повстанцы упорно сдерживали добровольческие войска на Донецком фронте, не давая им возможности продвинуться на север. Даже отчаянные попытки генерала Шкуро с его дикой дивизией прорвать их оборону окончились неудачей. Но для Троцкого важней было уничтожить самого Махно. Он вновь и вновь повторял своим соратникам: «Лучше отдать всю Украину Деникину, нежели допустить дальнейшее развитие махновщины. Деникинщину, как открытую контрреволюцию, всегда можно разложить классовой агитацией. Махновщина же идет в низах масс и, в свою очередь, подымает массы против нас».
Теперь и Ленин, напуганный крупными восстаниями в самых разных концах страны, повторял вслед за ним: «Русский бунт представляет наибольшую опасность, во много раз превышающую угрозу со стороны всех белых, сложенных вместе».
Ворошилов получил телеграмму с напоминанием: «Махно подлежит аресту и суду Ревтрибунала, а посему Реввоенсовету Второй армии предписывается принять немедленно все меры для предупреждения возможности Махно избежать соответствующей кары. К врагам народа не может быть никакой пощады».
Выполняя приказ, красные полки нападали на тыловые обозы махновцев, арестовывали бойцов и командиров, отправляя их в Чрезвычайный трибунал. Видя такое предательство большевиков, многие повстанцы поговаривали о том, чтобы перейти на сторону белых. «Еще не время, – убеждали их командиры, преданные, как и Махно, революции, – надо разбить Добровольческую армию – главного врага революции и украинского народа, а затем взяться за большевиков».
Троцкий добился своего: Красная армия в этом районе терпела поражение за поражением и почти полностью была разгромлена. Инициатива наступления перешла к деникинцам. Их войска стремительно продвигались по Украине, заняли Харьков, Екатеринослав, Александровск и приблизились к Гуляй-полю.
Из «набатовцев», кроме Аршинова и Барона, в селе оставались еще несколько человек, продолжавших заниматься культмассовой и издательской работой. Даже в эти дни самых ожесточенных боев выходили газеты и листовки, распространявшиеся среди бойцов и населения.
Слухи о наступлении белых в направлении Александровска и Гуляй-поля поступали давно, но односельчане верили, что батько не допустит врага в родное село. Никаких частей и орудий не только в селе, но и во всем районе давно не было: все отправили на фронт. Поэтому, когда рано утром по центральной улице к штабу проскакал верховой с известием, что конница Шкуро находится в 20 верстах от них, поднялась паника. Находившийся в штабе Борис Веретельников, быстро собрал оставшихся в селе мужиков, и, вооружившись домашними средствами (у кого, что было): топорами, вилами, пиками, обрезами и берданками, они выступили навстречу казачьей лавине.
В это время с другой стороны села выезжал обоз, в котором находились раненые бойцы, старики, женщины, дети. Ехали с ними и «набатовцы». На станции друзья расстались. Аршинов, супруги Бароны и еще несколько человек решили пробираться в Харьков, уже занятый Добровольческой армией, чтобы там продолжить подпольную работу и, когда понадобится, вернуться к Махно. Марфа везла полуживого Николая в Ромны. Друзья достали ему крестьянскую одежду и соответствующие документы. Марфе велели говорить, что он заболел в дороге тифом, тогда никто не будет приставать. Суеверная Марфа испуганно замахала руками: «Нет, нет, только не это, а то накличете новую беду».
Первым пришел поезд на Харьков. Друзья крепко обнялись.
– Мне очень жаль, что я выбыл из строя, – с горечью сказал Николай. – Увидимся ли мы когда-нибудь снова?
– Увидеться-то увидимся, – задумчиво протянул Аршинов, – а вот сможем ли продолжать работу, это еще вопрос… Кто бы ни победил: белые или красные, они не потерпят у себя ни нас, ни Махно.
– Ты думаешь, Петя, это – окончательный разрыв с большевиками?
– Я смотрю на вещи реально. Троцкий не успокоится, пока нас всех не уничтожит, пусть для этого понадобится пожертвовать всей Красной армией. Это чудовище, а не человек. Махно просил меня написать книгу о нашем движении. Там я изложу все свои мысли о Троцком и большевиках. Пусть весь мир узнает, что они из себя представляют.
– Хорошая идея. Я тебе завидую.
– Ты сам, когда поправишься, тоже напиши о «Набате». Наш опыт работы еще пригодится.
ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
И СНОВА ФРОНТ
ГЛАВА 1
В конце августа профессора Даниленко неожиданно вызвал к себе нарком здравоохранения Семашко. Умный, приятный человек, походивший своим чутким отношением к людям на Бехтерева. Только в отличие от академика он был профессиональным революционером, отбывал ссылку, жил за границей и даже сидел там в тюрьме. Семашко обычно звонил Володе, когда кто-нибудь из членов ЦК или правительства требовал к себе «самого лучшего врача».
Два раза его приглашали к Ленину для участия в консилиумах, когда того ранили в шею, и вызывали после этого еще несколько раз. Вождь революции оказался страшно упрямым человеком. Что толку было советовать ему полный покой и ограничение в умственной деятельности? Он никого не слушал, продолжал интенсивно работать и тем самым укорачивать себе жизнь. Володя объяснял это и Семашко. Нарком разводил руками.
– Такая у него привычка: за все браться, во все вникать. Мы к этому привыкли еще в эмиграции.
И на этот раз Володя решил, что его вызывают к какому-нибудь высокопоставленному пациенту. В таких случаях нарком давал наставления, полагающиеся ему по должности.
Поднявшись из-за стола, Николай Александрович вышел ему навстречу и от души пожал руку.
– Ну, вот Владимир Ильич, – сказал он, улыбаясь, – ваш беспокойный тезка вторгся и в нашу сферу деятельности… Просит выехать на Южный фронт с инспекцией, посмотреть, как там поставлена медицинская служба. А мы еще не успели ее наладить. Он сам назвал вашу фамилию. Скажу вам откровенно, Ленин уважает людей, которые говорят ему правду, а не виляют хвостом. Вы сказали ему все, как есть, о его настоящем состоянии. Он это запомнил. Я пытался навязать ему Шварца, ссылаясь на вашу инвалидность. Он уперся: «Только профессор Даниленко». Так что, батенька, придется вам ехать и чем быстрей, тем лучше.
Подойдя к карте, Семашко взял указку и ткнул ею в жирную красную линию.
– Вот здесь сейчас стоит армия Деникина. Она заняла Киев. У нас нет сил, чтобы ей сопротивляться. Через три дня в Синельниково отправляется бригада хирургов. Хорошо бы вам выехать вместе с ними. Оттуда желательно проехать по всему фронту, свои донесения можете передавать по телеграфу в штаб армии. В подмогу дам вам еще несколько человек. Помните, что это задание самого Владимира Ильича.
Володя не знал, как отнестись к поручению вождя. Хуже нет, чем заниматься чужим делом, но увидел и пользу: как бывший военный хирург он сможет передать медикам Красной армии свой опыт, провести в госпиталях показательные операции на головном мозге, которые нигде не практикуются, кроме их больницы.
Елена расстроилась, решив, что он сам напросился на фронт, как это было в начале той войны с немцами. Не могли же ни с того ни с сего направить на фронт лучшего нейрохирурга и заведующего отделением, тем более, что у него ампутирована ступня, которая часто болит при долгой ходьбе и многочасовых операциях. Если бы на месте Семашко был Бехтерев, она пошла бы к нему на прием и своими слезами разжалобила старика. Семашко она не знала, и вряд ли могла рассчитывать на его сочувствие.
Володя успокаивал ее и тетю Пашу тем, что едет ненадолго и будет далеко от передовой.
Перед отъездом ему захотелось увидеть Лялю и, не предупредив ее заранее по телефону, поехал к ней домой.
Для каждой семьи в этой огромной квартире было определенное количество звонков, о чем извещал висевший рядом с кнопкой список в рамочке под стеклом. К Ляле – восемь. На них долго никто не откликался. Без всякой надежды он позвонил еще раз и повернулся, чтобы уйти, как услышал знакомый голос:
– Кто там?
– Это – я, Володя, – обрадовался он.
Дверь медленно открылась. Увидев его, Ляля смутилась и отступила назад, кутаясь в большой пуховой платок, но и платок не мог скрыть ее округлившуюся фигуру, выпяченный живот: Ляля была беременна.
Опять шли по длинному коридору, слыша за собой звуки открывающихся дверей. Лялина беременность, давно обнаруженная опытным глазом ее соседки по кухне Цыплаковой, матерью шестерых детей, была в центре внимания жильцов. Никто не сомневался, что виновником ее стал тот красивый видный мужчина, который бывал у нее одно время, и потом исчез. «Подлец», – осуждали одни. «Поиграл и бросил», – вздыхали другие. «Я знала, что этим кончится, – говорила жена Мельникова Софья Игнатьевна, шестидесятилетняя дама с потухшими глазами и преждевременно увядшим, желтым лицом. – Одинокой женщине это ни к чему, надо было принять меры». «Ах, оставьте ее в покое, Софья Игнатьевна. Пусть рожает себе на здоровье», – заступался за Лялю кто-нибудь из женщин, упустивших счастье стать матерью.
Володя чувствовал себя уязвленным, не сомневаясь, что это – его ребенок. Когда они вошли в комнату, он сказал с упреком.
– Почему ты мне не сообщила о своей беременности?
– Я не хочу тебе чем-либо навредить. Это – мой ребенок. Он мне заменит Машу и Сережу.
– Ты так говоришь, как будто я не имею к нему отношения. Я – его отец и не собираюсь от него отказываться. Иди ко мне. – Он посадил ее на колени и положил руку на живот. – Сколько уже недель?
– Тринадцать. Я думала, в отделении будут недовольны моим положением, а они все принимают во мне горячее участие.
– Разве можно на тебя сердиться, – сказал он, обнимая и целуя ее. – Я пришел к тебе попрощаться: уезжаю на фронт с инспекцией медицинской работы.
– Почему ты? Ведь это опасно, – переменилась она в лице. – Лучше бы ты мне об этом не говорил. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится…
– На той войне ничего не случилось, а здесь и подавно не случится. Лазареты находятся далеко от передовой.
– Ты тогда был серьезно ранен и объявлен в списках убитых…
– Это чистая случайность. Мама сюда приедет?
– Приедет. Сейчас она продает мебель и вещи. Все-таки деньги.
– Дай ей телеграмму, чтобы немедленно приезжала. Я попрошу нашего водителя Максима привезти тебе на работу деньги, ему можно доверять, и потом, когда вернусь, буду помогать. Ты должна хорошо питаться. Я вас не брошу. Но встречаться часто мы не сможем, сама понимаешь…
– Я все понимаю, Володенька. Ты меня вернул к жизни, а здесь – твое повторение. О том, что ты его отец, никто не узнает. Мы с мамой об этом позаботимся.
– Ты сама не понимаешь, что говоришь. Я же тебе сказал, что не собираюсь отказываться от ребенка, буду вам помогать и изредка навещать. У него есть отец, он должен это знать. Глупая, я же тебя люблю, неужели об этом надо постоянно напоминать.
– Он может проговориться, когда подрастет, – сказала она сквозь слезы.
– Шила в мешке не утаишь… Мне пора идти. Не провожай меня. Я сам дойду.
Он крепко обнял ее и долго не отпускал.
– Ах, Ляля, Ляля, что ты со мной делаешь? Всю мою жизнь перевернула.
– Береги себя, – еле вымолвила она, и в ее голосе было столько любви и нежности, что у него от жалости к ней защемило сердце. – Вернешься, сразу позвони. Мы тебя будем ждать.
ГЛАВА 2
Комиссия, которую возглавлял Володя, состояла из шести человек. Кроме него самого, в нее входили еще три хирурга, врач по внутренним болезням и инфекционист. Все они участвовали в войне с германцами, имели ранения и награды, а после революции работали в разных медицинских учреждениях Москвы. За три недели поездки по фронту врачи посетили около ста госпиталей и лазаретов и поняли, что инспектировать их – бесполезное занятие. Везде были грязь, антисанитария, полное нарушение (вернее, не исполнение) инструкций, особенно тех, что касались содержания инфекционных больных.
Больные тифом лежали в общих помещениях с другими ранеными. Казалось, вся Украина охвачена этой эпидемией. Куда бы они ни приезжали: в село или город, все госпитали и больницы занимали в основном тифозные, среди которых были и белые (их оставляли, полагаясь на божью милость), и махновцы, и красноармейцы, и местное население, заражавшееся от проходивших мимо войск. Не хватало врачей, сестер, лекарств и помещений, приспособленных для содержания таких больных и обработки их одежды. Во время той войны Красный крест и разные благотворительные общества на сборы от пожертвований организовывали бани-поезда, передвижные парикмахерские, прачечные и специальные вагоны для санитарно-гигиенических целей. Сейчас об этом оставалось только мечтать.
В одном из отчетов Семашко Володя писал: «Только что приехали в Жмеринку. Жизнь в городе отсутствует. Все госпитали и больницы заполнены больными тифом… Они лежат в коридорах и на лестничных площадках, часто просто на голом полу, в грязи и собственных нечистотах. Ухаживать за ними и убирать помещения некому. Врачей категорически не хватает, нет ни лекарств, ни вакцин, ни перевязочных материалов. Малочисленный персонал, который остался в городе, жалуется, что умерших некуда девать, поскольку не успевают хоронить, а в морге скопилось около 20 000 трупов… Все кладбища вокруг увеличились в несколько раз».
Не лучше было и положение тяжело раненных бойцов. Редкий случай, когда операцию проводили под анестезией. Резали по живому или давали человеку выпить стакан разведенного спирта (горилки, самогона, водки – того, что оказывалось под рукой). Все хирурги сами много пили и часто делали операции в алкогольном угаре. Куда до них было Левашову и Селиверстову, коллегам Володи по первой мировой войне. Спиртного было много, его отбивали у петлюровцев и деникинцев, и только однажды попался обоз с лекарствами. Как представитель Совнаркома, Володя приказал распределить лекарства по всем ближайшим госпиталям, но не было уверенности, что их доставят по назначению – такая в войсках царила низкая дисциплина.
Возможно, где-то в других частях Красной армии все было по-другому, но здесь чувствовался сильный разброд в мыслях и действиях людей. Пожилой инфекционист Воронцов объяснял Володе, что во всем виноваты махновцы, оставшиеся в частях после разгрома Повстанческой армии.
– Махно – бандит первой степени, ненавидит советскую власть и восстановил против нее все крестьянство Украины. Поэтому здесь такая кутерьма.
– Я слышал об этих людях несколько другое, но особенно не берусь судить, так как плохо разбираюсь в политической обстановке.
– Этот бандит организовал огромную армию, да Троцкий вынудил его уйти со своего поста. Ходят слухи, что он на время затаился, и все оставшиеся в Красной армии его люди ждут сигнала о новом выступлении. Тогда они уйдут к нему, а мы останемся ни с чем.
– Вы, Петр Тихонович, давно в большевиках?
– Да бог с вами, Владимир Ильич, я всю войну пробыл в Восточной Пруссии, теперь работаю в Наркомздраве у Семашко. Военная медицина в русской армии налаживалась столетиями, теперь ее разрушили и хотят восстановить за один месяц.
– И в ту войну было не все так гладко. Я тоже был на фронте и в самом начале войны писал Бехтереву о недостатках.
– Тогда были недостатки, а сейчас кричи: «Караул!» Я, между прочим, – таинственно произнес Воронцов и оглянулся вокруг, хотя они были одни в комнате, – после последней контузии попал в Киеве в госпиталь Великой княгини Ольги Александровны, она там сама работала. Настоящий ангел; ничем не брезговала, собственноручно обмывала солдат, меняла гнойные повязки. А теперь? Э-х-х! Пушечное мясо, как у Толстого, и нет к человеку никакой жалости, хотя и революция…
Постепенно комиссия поредела. Воронцов был ранен в грудь при общем отступлении части, в которой они в это время проводили проверку, его отправили в Курск. Хирург Рожков получил известие из дома о тяжелом состоянии его жены после родов, и Володя вынужден был отпустить его в Москву. Двух других хирургов и терапевта он своим приказом оставил в разных госпиталях, оказавшихся во время их инспекции без врачей. Сам он тоже под конец застрял в полку, где накануне его приезда в лазарет попала бомба и из медперсонала уцелели лишь фельдшер и две медсестры. Командир полка Гладышев попросил его остаться, пока не пришлют новых врачей.
Полк то наступал, то с сильными боями отступал, неся большие людские потери. В лазарет каждый день поступали десятки раненых бойцов с тяжелыми ранениями, страшными увечьями, обезображенными лицами, ослепшими глазами. Все это уже было в его жизни: бессонные ночи, тяжелые переходы, горы трупов по бокам дороги, дикая головная боль от усталости и запах крови, пропитавший все вокруг. Была какая-то бессмыслица в том, что он делал: спасал людей, чтобы их снова отправляли на убой. Бесконечная вереница человеческих жертв, и конца этому не видно. «Война людей поедает, а кровью запивает», – вздыхала медсестра Фролова, накрывая простыней очередной труп.
В редкие часы отдыха он думал о жене и Ляле. Обеим он передал письма с хирургом Рожковым, уехавшим в Москву. Елене он подробно написал о своем жизни, спрашивал о детях, учебе Шурика, тете Паше. Весь тон письма говорил о примирении с ней и желании их всех скорей увидеть. Он был искренен.
Лялю спрашивал о здоровье, просил беречь себя и будущего малыша, давал разные советы. Письмо было сухое: он не хотел ее ничем обнадеживать. Любовь и нежность к ней боролись с жалостью и горьким сознанием, что она не сможет получить от него той доли счастья и внимания, которые заслуживает. Ее ласковое «Володенька» при последней встрече стояло у него в ушах, вызывая страшную тоску.
В начале октября они подошли к селу Волошновка. Отсюда до Ромен было чуть больше часа езды на хорошем коне. Потрепанный полк отдыхал. Воспользовавшись этим, Володя решил отпроситься у командира, чтобы съездить на два дня к родным.
– А если не разрешу, – сурово сказал Гладышев, буравя его воспаленными от бессонницы глазами. Вид и тон его были напускными, он испытывал к московскому профессору уважение за то, что тот без особого нажима остался в лазарете и вдвоем с фельдшером Симагиным выполнял работу, рассчитанную на приличный штат врачей.
Володя пожал плечами.
– Убьют тебя, доктор, или свои, или белые, а то и махновцы. А у нас лазарет полон людей.
– Ничего со мной не случится. Симагин и медсестры вполне справятся с ранеными.
– Шут с тобой, езжай, возьми только в сопровождение ребят.
– Не надо никого. Я здесь все места знаю, если что, один быстрей уйду.
– Чует мое сердце, добром это не кончится, – хмуро изрек Гладышев. – Скажешь эскадронному, чтобы подобрали тебе коня, да на кухне вели харч выдать, дома-то много людей?
– Четверо взрослых и маленькие племянницы.
– Тогда проси больше сахара и муки.
Володя сам выбрал коня золотисто-рыжей масти, похожего на бывшего у них когда-то дома Норда – любимца всех братьев. Как назло его хозяином оказался эскадронный Медведчук, не довольный тем, что приходится расставаться со своим верным другом.
– Винтовку возьмете? – хмуро спросил он.
– Да нет, а то примут за бандита. Достаточно маузера…
– С вашей внешностью вы на белого офицера смахиваете. Убьют вас, доктор, как пить дать, убьют.
– Что вы меня с Гладышевым раньше времени хороните? Я уже был однажды в списках убитых, ничего пронесло, а с таким красавцем и вовсе не пропаду, – Володя ласково похлопал коня по спине. Тот беспокойно бил копытами землю, кося на него умными темно-агатовыми глазами.
– Вы того, – замялся эскадронный, привязывая к седлу торбу с овсом, – Бурана берегите, он любит тонкое обхождение.
– Да не бойся ты, Медведчук, верну тебя твоего Бурана в целости и сохранности.
На кухне пожилой повар Гудков, ходивший к Володе за мазью от болей в суставах, от души насыпал ему полную наволочку муки и вручил большую головку сахара в бумажной обертке.
– Дети есть? – деловито спросил он.
– Есть, маленькие, и сестра 16-и лет.
– Тогда, доктор, возьмите еще шоколад, наши давеча отбили у беляков обоз с продовольствием. Швейцарский, больно красивая обложка. Вот как раз в упаковке десять штук.
– Давайте, если не жалко.
Уже вечерело, когда он въехал в Сабуровский лес. Было прохладно и непривычно тихо, Дорога с глубокими колеями от повозок петляла между деревьями. Лес был знакомый, и вместе с тем он его не узнавал: там появилась раскидистая береза, тут вылезла рябина, а справа он нее поднялся молодой дуб. Ветви деревьев тесно переплелись между собой и сквозь них, как через решето, пробивались лучи заходящего солнца. На душе стало легко, как обычно бывает, когда попадаешь в родные места, и на тебя наплывают приятные воспоминания. Далеко-далеко затянула свою песню кукушка, припозднилась голубушка, а ведь пора улетать в теплые края. Отец, когда ее слышал, замирал и, подняв вверх указательный палец, говорил: «А ну, ребятки, спросим ее, сколько мне осталось жить».
Остановив Бурана, он принялся считать: «Раз, два,… шесть, девять». Неожиданно его занятие прервали громкие крики и выстрелы. Он быстро нырнул в лес. Привязав коня к дереву, осторожно пошел в том направлении, откуда раздавались голоса, и скоро увидел довольно неприятную картину. Шесть человек в кожаных тужурках, какие обычно носят чекисты, лежали на земле со связанными руками и ногами. Еще двое в зипунах и с нацеленными на пленных винтовками стояли рядом. В стороне паслись стреноженные лошади.
– Тарас, а Тарас, – бубнил один их вояк. – Говорю тебе, батько заругает. Он велит всю эту сволочь доставлять в штаб.
– А что как сбегут? Их шесть, а нас двое. Сейчас стемнеет. Расстреляем и дело с концом. А батьке скажем, что мол, хотели сбежать, потому и пристрелили. Туда им и дорога.
– Батько ж все равно узнает. Ой, лихо нам будет.
– Узнает, если будешь языком молоть. Так же, дурна голова, тобі говорять, стріляй.
Володя испугался, что, услышав стрельбу, кони бандитов заржут, Буран отзовется и выдаст себя и его. Он вернулся назад и, ласково гладя животное по спине, приговаривал: «Спокойно, дружочек, спокойно!».
Грянули выстрелы, лошади в том месте нервно забили копытами и захрапели. Буран вздрогнул, присел на задние ноги, но, понимая, что от него хочет человек, не издал ни единого звука.
Бандиты еще долго оставались на месте. Боясь шелохнуться, Володя не знал, что делать дальше. Давно стемнело, бледный ковшик месяца повис над деревьями, становилось холодно. Что они там застряли? Наконец, все еще споря, будет их батько ругать или нет, всадники проехали в двух шагах от него, направляясь к дороге. Резко пахнуло сивухой. «Вот он цинизм нынешнего времени, – подумал Володя, – расстреляли группу людей и, хоть бы что, думают только о каком-то батьке, у которого наверняка руки по локоть в крови». Выждав еще некоторое время, он продолжил свой путь.
За оврагом спешился и, ведя коня под уздцы, с замирающим сердцем подошел к родному дому. На стук в ворота никто не откликнулся. Боясь переполошить всю улицу, он кинул камень в сад, надеясь, что залает собака. И та молчит. Постучал сильней. В доме началось движение, скрипнула дверь, мамин испуганный голос воскликнул: «Коленька, кто это может быть?» «Коля в Ромнах», – обрадовался Володя (он давно не имел о нем известий), и, не дожидаясь, пока тот подойдет к воротам, громко крикнул, что это он, Володя.
– Какой Володя? – с изумлением переспросил Николай.
– Да открывай скорей, брат твой родной.
Щелкнула задвижка, братья бросились в объятья друг другу. По дорожке к ним бежали мама и Марфа.
– А где все остальные? – спросил он, обнимая и целуя женщин.
– Поздно уже, все спят. Да какими ты, сынок, судьбами? Вот радость-то. В свитке, да на коне… Надолго ли?
– Завтра обратно возвращаться, я тут недалеко в красноармейском лазарете застрял.
– Проходи скорей в дом, – засуетилась Марфа. – Сейчас соберу на стол, там и поговорим.
– Подожди, Марфа, надо задать корм коню. Ох, и умница он, – Володя ласково потрепал Бурана по шее. – Похож на нашего Норда.
– Иди, иди, милый, я сама все сделаю.
– К седлу привязаны мешки с мукой и сахаром. Привет от командира Красной армии.
– Тише, Володюшка, тише, – испуганно воскликнула мать, уловив в его словах иронию. – У них везде уши.
– Мама, я у себя дома.
– Вчера их чекисты откуда-то понаехали, искали «махновцев». Коля-то тоже был с ними связан, хорошо здесь никто не знает. Мы тут от всех натерпелись, сынок: то одна власть, то другая, и разницы никакой нет.
– А собака ваша куда делась?
– Убили нехристи, даже не знаем кто: белые, красные или просто бандиты. Вот также ночью постучали в ворота, а он с поводком по проводу бегал, залаял на них, через забор и пристрелили. Новым не успели обзавестись.
Володя вошел в столовую, и сердце у него защемило, комната была пустой: только стол и стулья. Он знал о бандитском разбое Костюка, но не думал, что тот обнаглел до такой степени: весь дом обчистил.
После ужина, приготовленного на скорую руку, и недолгих расспросов женщины ушли спать, братья остались в столовой, потягивая вишневую наливку и разговаривая в полголоса.
– Ты плохо выглядишь, – сказал Володя, – тощий, бледный.
– Сейчас еще нечего, а то весил 48 килограммов, ветром сдувало. Спасибо Марфе, вытащила меня с того света, сюда доставила. Без нее пропал бы.
– Ты о Ване им сказал?
– Нет, не хватает духу. А надо бы. Мама им с Ильей вяжет носки, шарфы. Она и про Илью не знает, что он в Красной армии. Пишет письма Сереге и вкладывает туда записки для ребят, а тот один отвечает ей и шлет от братьев поклоны.
– Нехорошо это. Надо сказать.
– Попробуй. Они тут вертятся, как белки в колесе. Хотел им помочь, да не мог никуда устроиться: фабрики и заводы стоят, в учреждениях все места заняты. Чиновников нынче развелось больше, чем людей, – засмеялся он собственной шутке. – По старой памяти взяли в реальное училище, да зарплата там пустяковая, и каждый раз приходится подстраиваться под новую власть.
– А вот теперь скажи мне, борец за справедливость, чего вы добились своей революцией? Голод, разруха, тиф. На той войне люди хоть знали, за что воюют и погибают. Сейчас же русские воюют с русскими, сосед убивает соседа. Я в Сабуровском лесу случайно оказался свидетелем, как двое расстреляли группу лежачих и связанных людей. Такое впечатление, что все с ума посходили…
– Этого следовало ожидать. Большевики хотели установить свою диктатуру, им это удалось. Теперь они уничтожают всех, кто им мешает: эсеров, меньшевиков, анархистов, ну, а с простым народом им не сладить. Украинцы наши молодцы. Два года воюют, и находят новые силы, чтобы бить и Деникина, и Троцкого. Степан Разин продержался чуть больше года, Емельян Пугачев – два года, жакерия во Франции – два месяца, а Махно будет еще долго сопротивляться, на его стороне все население.
– Но ведь это бесполезно, все равно большевики не дадут ему установить свою власть, только зря людей погубит. По последним сводкам из штаба где-то сорок тысяч умерло только от тифа и холеры. И в Москве – холера, голод, холод. В правительственных учреждениях установили санобработку от вшей для всех посетителей, все провоняли нафталином.
– Знаешь, как аукнется, так и откликнется. Такая власть обязательно рано или поздно рухнет. Люди, вкусившую волю и свободу, никогда не станут на колени, будут бороться за них до последнего.
– В других местах народ идет за большевиками. Им доверяют больше, чем вам.
– Да, брось ты. Пол-России восстало против них. Другое дело, что у них лучше построена организация, есть регулярная армия, известное тебе ЧК, которое держит всю страну за горло.
– У меня нет сочувствия ни к белым, ни к красным, ни к вам, анархистам. Я всегда был против революции и против вашего с Серегой участия в политических делах. Мне не нравится то, что сейчас происходит. Человеческая жизнь потеряла всякую ценность.
– О, как! Рубанул, так рубанул. Можно подумать, что при царизме она имела какую-то ценность. Была аристократия и был народ, и первой до второго не было дела, в то время как этот народ мучился и страдал. Поди, спроси у этого народа, хочет он, чтобы все вернулось на свои места, опять появились помещики и господа?
– Ну, пошла плясать губерния… Я не для того сюда приехал, чтобы с тобой спорить… Жизнь-то, Коля, идет своим чередом, хотим мы этого или нет. Я тебе должен кое о чем рассказать…
– Надеюсь, ничего плохого, – насторожился Николай, взвинченный разговором.
– Ляля приехала в Москву с раненым сыном.
– Знаю, сам провожал ее до границы…
– Надеялась, что спасу мальчика, а он был обречен… Умер через несколько дней. И дочь погибла при обстреле. Муж – негодяй. Я не мог ее бросить, обещал поддержать. Ну, вот у нас все снова и закрутилось.
– Кто-то не так давно убеждал меня, что любовь – это химические процессы.
– Что ты вспоминаешь всякую чепуху. Я ее люблю, не смог вовремя остановиться. На фронте у меня тоже была связь, с Любой, помнишь, медсестру в Екатеринославе, угощала меня пирожками?
– Помню, красавица, хоть куда.
– Встретились случайно, завязался роман. А, черт, – выругался он, перелив через край стакана наливку и замочив скатерть, – тоже волновался, ждал ее прихода по ночам, а уехала – и забыл. Здесь же сама нечистая сила закрутила.
– А Лена?
– Догадалась обо всем, объявила бойкот, мальчиков в это дело втянула. Пришлось с Лялей расстаться. Перед отъездом на фронт зашел к ней попрощаться и узнал, что она беременна. Представляешь мое состояние. Обещал помогать и навещать ребенка, чтобы он знал своего отца.
– Да-а-а… Веселенькая история.
– Только, пожалуйста, никому об этом не говори, даже Лизе.
– Можешь не беспокоиться: все останется между нами.
У Володи тоже не хватило духу сказать родным о гибели Вани. Сказать – значит, убить маму, стоило ради этого приезжать сюда на два дня?
Следующий день прошел быстро. Перед тем, как Володе уезжать, Елена Ивановна нажарила целую гору блинчиков из кабачков.
– Твои любимые, – говорила она сыну, заворачивая их в вощеную бумагу, – поешь в дороге.
– Как это вы, мама, все помните? Я сам давно забыл об этом.
– Я, сынок, все помню. Каждую родинку у всех вас, все ваши царапины, шрамы. Что нам с Марфой остается еще делать? Жить вашей жизнью и воспоминаниями.
Николай и Лиза пошли провожать его до оврага. На руках у брата была маленькая Оля. Вера попросила дядю Володю покатать ее на лошадке, он посадил ее в седло и, шагая рядом, придерживал девочку за спину.
– Мама, папа, – визжала та от восторга, – меня лошадка везет.
Николаю захотелось самому прокатиться с ветерком. Передав жене Олю, привычным движением поставил ногу в стремя, сел в седло – был еще порох в пороховнице, и, прижав к себе Веру, помчался вдоль березовой рощи.
– Володя, – спросила Лиза, провожая взглядом уносящегося вдаль золотисто-рыжего коня, – как там Ляля? Коля говорил, что она поехала к тебе с больным сыном.
– Мальчик умер.
– Вот как. А она?
– Осталась в Москве, работает в больнице.
– Так жаль ее. Вы встречаетесь? – она испытующе посмотрела на него. Он не выдержал и отвел глаза: ох, уж, эти женщины, от них ничего не скроешь.
– Общаемся по телефону.
– Дай ей наш адрес, пусть мне напишет.
ГЛАВА 3
Не успел Володя въехать в расположение отряда, как стоявшие в дозоре солдаты передали ему приказ командира срочно к нему явиться. По дороге к штабу его догнала медсестра Фролова. Задыхаясь и держась за сердце, Серафима Петровна сообщила, что утром привезли в тяжелом состоянии раненого чекиста, Симагин ампутировал ему левую руку и зашил рваную рану на щеке.
– Молодцы, – похвалил Володя, – я знал, что вы прекрасно справитесь без меня.
– Это еще не все. У него прострелено левое легкое. Его надо срочно оперировать. Он совсем плох.
– Серафима Петровна, и я, и вы знаете, что это невозможно. Он все равно умрет.
– Гладышев говорит, что надо его спасти, большой начальник, сам Ворошилов сюда прислал телефонограмму …
– Кто такой этот Ворошилов? Пусть сам сюда приезжает и делает, что хочет….
– Гладышев велел передать: это – приказ…
Володя нахмурился: он до сих пор не мог привыкнуть к этим нелепым армейским приказам большевиков. Гладышев говорит, Гладышев сказал, Гладышев приказал… Как будто они знают больше него, что нужно делать. Большой начальник этот чекист, эка невидаль. Сам, наверное, погубил кучу народу. У него была неприязнь к чекистам с тех самых пор, как он имел дело с заместителем Дзержинского Жмудским. Нет, хватит тут торчать. Скорей в Москву, в привычную больничную обстановку.
– Так идти мне к Гладышеву или нет? – спросил он Фролову.
– Не надо. Мы уже все приготовили для операции. Ждали вас.
На столе лежал человек, на половину прикрытый простыней,. Лица его из-за наклейки на щеке нельзя было рассмотреть. Он часто и тяжело дышал, на губах пузырилась розовая пена. Другая сестра Бокарева убирала ее мокрой салфеткой.
Фельдер Симагин держал в руках бутыль с разведенным спиртом.
– Последняя осталась, – шепотом сообщил он. – Этому дали уже два стакана, не берет. Дать еще?
– А морфий?
– Вчера весь вышел.
– Дайте ему еще стакан и мне столько же, – сказал Володя, залпом выпивая обжигающую жидкость. – Ну что ж, Иван Никифорович, начнем, помолясь.
Операция шла долго и, как ни странно, больной не умер ни во время операции, ни ночью.
Утром Володя пошел его проведать. Свободных комнат не было. Чекист лежал в общей палате, отгороженный от остальных раненых простыней – хотя бы так уберечь от инфекций, которым особенно подвержены легочники. Внимательно прослушал его сердце, оставшееся легкое, сосчитал пульс.
– Серафима Петровна, – спросил он стоявшую рядом сестру, – вы заполнили карточку на этого человека, как его зовут?
– Доктор, – приоткрыл глаза раненый, – мы с вами знакомы.
– Вот как, вы лечились у меня в Москве?
– Я – Арон Ефимович Могилевский. Помните, в Екатеринославе вы вынимали пулю у брата Лизы Фальк Иннокентия и дали нам адрес в Полтаву к доктору Бокову?
– Еще бы не помнить. Брат сошел с ума, Боков по вашей милости попал в тюрьму, бежал за границу. Вы, кажется, были анархист, – сказал он совсем тихо, – а теперь на стороне красных?
– Можете не бояться. Я в открытую перешел к большевикам и пользуюсь у них доверием. Я рад, что вы тоже с нами, доктор.
Володя поморщился.
– Вам нужен покой. Постарайтесь как можно больше спать. И в будущем: не пить, не курить и никаких физических нагрузок. Теперь ваша работа – заботиться о своем здоровье.
– Неужели вы думаете, что я буду сидеть дома в четырех стенах? Я еще послужу революции.
– Это ваше дело.
– Ваш знакомый? – поинтересовалась Фролова, когда они вышли в коридор.
– Встречались случайно в Екатеринославе, это было слишком давно.
Через неделю с лица Могилевского сняли наклейку: по всей его левой щеке проходил большой шрам. С непривычки он все время прикрывал его рукой.
– Ничего, ничего, голубчик, – успокаивала его сердобольная Серафима Петровна, – шрам украшает мужчину.
– Кто его так изуродовал? – спросил ее Володя.
– Наверное, махновцы, поймали их группу в лесу. Все погибли, а этот оказался живой. Наша разведка его подобрала.
«Вот тебе на, – усмехнулся Володя, вспоминая сцену в Сабуровском лесу. Возможно, он оказался случайным свидетелем расправы над теми чекистами, а, может быть, это были другие люди, – пострадал от рук своих бывших соратников». Арон был неприятен ему в первую встречу с ним в Екатеринославе и сейчас не внушал никакого уважения.
… И снова потекли тоскливые будни, отличавшиеся друг от другого тем, что полк то наступал, то отступал, то вел непрерывные бои, после которых они с Симагиным и медсестрами сутками не выходили из операционной. В Москву он смог вырваться только весной следующего года. Прощаясь с доктором, Гладышев сказал, что будет просить для него в штабе дивизии награду.
– Зачем? – смутился Володя. – Ничего особенного я не сделал, это моя обычная работа.
– Вы спасли много людей, они снова борются с врагами, – сказал этот уставший, измученный бессонницей, человек.
Володя знал, что еще недавно он был простым рабочим на судостроительном заводе в Сормове, революция призвала его на фронт. Теперь он командовал большим количеством людей, осваивая на ходу премудрости военного искусства. Красноармейцы его любили. Он честно выполнял свой революционный долг. «Каждый из нас должен быть готов умереть за наше правое дело, – говорил он бойцам перед боем, – не мы, так другие увидят светлое будущее».
– Для меня будет высшей наградой, – сказал Володя, глядя в его воспаленные глаза, – когда война кончится, и люди разойдутся по домам. Так и передайте своему начальству.
ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ
ЧТО НИ ВЛАСТЬ, ТО БАНДИТЫ
ГЛАВА 1
Слово «постой» вселяло в жителей Ромен такой же ужас, как поборы, грабежи и убийства, так как размещенные в домах и квартирах солдаты всех армий занимались и тем, и другим, и третьим, превращая жизнь хозяев в немыслимый ад. Даниленко до сих пор везло: их огромный сад, роща за ним, овраг и проселочная дорога отпугивали всех, кого интенданты к ним направляли по указке местного начальства.
Вместе с тем их двухэтажный просторный дом не давал никому покоя. При советской власти Уездный военно-революционный комитет (местная власть в то время) хотел расселить в доме рабочих механического завода, а сад вместе с рощей сделать местом отдыха горожан. По этому поводу Ревком выпустил специальное постановление, но советскую власть вскоре сменили петлюровцы. Те решили создать здесь базу для боевой подготовки новобранцев; дом увеличить за счет пристроек; сад и рощу вырубить, и на их месте устроить учебный полигон. Хозяевам предложили переселиться в другое место, но и петлюровцы скоро исчезли, подарив им папку с чертежами и эскизами.
В свой очередной приход в Ромны большевики оставили их дом в покое, но обязали, как и всех жителей, уплатить налог, сдать зерно, фураж и мясо, каковых у них давным-давно не было. По этому поводу Елена Ивановна ходила объясняться в Ревком. Человек, выслушавший ее горестное заявление, оказался бывшим товарищем Сергея Даниленко по Иркутской ссылке. Узнав, что просительница – его мать, велел налог снизить в два раза, а все остальное отменить.
Однако и эта сумма для них была непомерно высокой. Сундуки и тайники давно опустели, кроме одного, под беседкой, где были спрятаны грузинский серебряный сервиз и несколько драгоценностей Фальков. Их берегли на самый крайний случай, и в этот раз решили не трогать. Кое-как набрали другие, годные к продаже вещи (особым спросом пользовались очки бабушки Екатерины Михайловны, иголки, наперстки, суровые и простые нитки), отнесли их на базар, и все, что удалось выручить, сдали в Ревком. Да, как вскоре выяснилось, поторопились: к городу с тяжелыми боями прорывались белые, и перевес оказался на их стороне.
Большевики срочно эвакуировали свои учреждения, отступая в сторону Полтавы. Последние обозы с награбленным имуществом (каждая власть грабила и уезжала с полными повозками) еще громыхали по улицам города, когда на вокзал прибыли белогвардейские эшелоны с войсками и техникой.
Это было днем, когда в реальном училище на Базарной площади шли уроки. Николай со своими учениками видели в окно, как торжественно прошествовали они по центральной улице. Впереди всех в коляске ехал важный пожилой генерал (как потом оказалась, это был Потоцкий), со скукой взиравший на стоявших по бокам дороги людей. За ним двигались в два ряда казаки на гладких, вычищенных до блеска лошадях. Следом шла пехота во главе с офицерами. Затем проехало несколько танков и бронированных машин. Шествие замыкали пролетки и обозы с семьями, багажом офицеров и солдатскими сундучками.
Деникинцы обещали украинскому народу избавить его от тирании большевиков, восстановить собственность, прежние учреждения, законы, прекратить погромы и мародерство, поэтому роменчане встречали их с радостью. В храмах трезвонили колокола. На домах незаметно исчезли красные флаги, плакаты и воззвания, все то, что носило революционный характер. Вместо них появились царские знамена со старой российской символикой.
Возвращаясь вскоре домой, Николай увидел повсюду портреты Деникина и Колчака, массу наклеенных объявлений. А вот и первый приказ: на город налагалась контрибуция в один миллион рублей. Жители также обязаны пожертвовать на нужды Добровольческой армии лошадей, фураж, продовольствие и «другие необходимые потребности». Уклонение от них карается смертью. «Вот тебе и освободители народа!» – усмехнулся он, дочитав до конца приказ.
Солдаты уже успели побывать у них дома вместе с начальником варты Перебейносом (третьим человеком на этом посту после Щербины) и вынести все бывшие у них в летней кухне и погребе продукты: муку, сахар, крупу, новый урожай овощей и фруктов. Мяса у них не было, вместо него Перебейнос приказал забрать козу и предоставить на нужды армии 500 рублей.
В это время из-за дикой инфляции цены росли на глазах, к ним не успевали привыкнуть, и названная сумма показалась Даниленко гигантской. Это был грабеж среди белого дня. Марфа и Елена Ивановна стали возмущаться. Перебейнос припугнул их, что деникинская контрразведка намерена рассмотреть дела всех неблагонадежных в царское время жителей города, к коим относятся Николай и Сергей Даниленко.
– Побойтесь Бога, – возмутилась Елена Ивановна, – Сергей полностью отбыл ссылку, был на фронте, имеет много наград. Николай свое отработал во Франции.
– Контрразведка разберется, – буркнул Перебейнос, с тоской взирая на голые стены столовой и гостиной. Ему было известно, что здесь хорошо «поживился» представитель прежней власти Степан Костюк. После этого Костюк вскоре исчез.
Тут он вспомнил, что его помощник недавно обнаружил в папках заявление жены Костюка Ганны, обвинявшей в исчезновении мужа и двух других городских начальников семью Даниленко. Сменявшиеся то и дело в Ромнах власти заявление не рассматривали, сейчас можно было дать ему ход, чтобы заставить этих буржуев раскрыть свои тайники, в наличии которых Перебейнос не сомневался.
– Есть также сведенья о причастности вашего семейства к исчезновению Костюка, Щербины и Устимовича, – сказал он, и в глазах его появился недобрый огонек. – Так что предлагаю вам хорошенько обо всем подумать. Принесете завтра указанную сумму, и все бумаги исчезнут.
– Вы на нас чужие преступления не вешайте, – возмутилась Елена Ивановна. – Грех это.
– Раньше, мать, головой надо было думать. Люди вроде благородные и не бедные, а своей же власти помочь не хотите.
– Что ты наши деньги считаешь? – рассердилась Марфа, подталкивая непрошеных гостей к выходу. – Мы в твой карман не заглядываем.
Солдаты покорно вышли во двор. Однако сам Перебейнос решил пройтись по всем комнатам, надеясь хоть чем-нибудь поживиться. Замашки у него были такие же, как у Костюка.
Осмотрев комнаты внизу, он поднялся на второй этаж, где прятались Олеся и Лиза с детьми. При появлении незнакомых людей Лиза завязывала платком голову и большую часть лица. Услышав шаги по лестнице, Олеся легла на кровать лицом к стене, Лиза прижала к себе девочек. Вера с ужасом смотрела на появившегося в дверях человека с винтовкой. Тот медленно обвел глазами комнату, и, подойдя к Лизе, сдернул с ее головы платок.
– Чего обмоталась? – грубо спросил он. – Боишься?
– Здесь холодно.
– Жена Николая?
– Да.
– А там кто?
– Племянница, у нее высокая температура и сыпь. Похоже на тиф, доктора надо.
Лиза сама не знала, как ей пришло в голову сказать про тиф: выскочило само собой. Начальник варты подозрительно посмотрел на нее и попятился к двери. Через пять минут их всех, как ветром сдуло.
Все домашние пришли в сильное волнение. Когда Николай вернулся из училища, они стали уговаривать его немедленно бежать из города. Марфа успела достать из тайника бидон с мукой и напечь ему в дорогу пирожки. Лиза собрала чемодан.
– Вы не понимаете простой вещи, – сказал Николай, распаковывая чемодан и выкладывая на блюдо пирожки, – эти люди все равно вас не оставят в покое. Будут тянуть и тянуть деньги.
– Они тебя арестуют.
– Обо мне не беспокойтесь, я как-нибудь выкручусь.
На следующий день Марфа отнесла в контору деньги (в ход пошел неприкосновенный запас из оставшегося серебра), а вечером Перебейнос снова появился на повозке в сопровождении трех солдат.
– Врач приходил? – первым делом спросил он у Елены Ивановны, не решаясь войти в дом.
– Нет. Много вызовов.
– Всех тифозных свозят в Бедюхову дачу. Завтра приду, проверю. Николая сюда позовите. У меня ордер на его арест, – он вынул из кармана смятую бумагу и, помахав ею перед лицом опешившей женщины, спрятал обратно.
– Что же вы творите? – всплеснула руками Елена Ивановна. – Арестовываете невинного человека. Креста на вас нет.
Перебейнос снял фуражку, вытер рукавом кителя вспотевший лоб. Еще вчера его голову покрывали густые волосы, теперь она была абсолютно лысой и блестела, как начищенный самовар (наверное, в подражании Деникину и Потоцкому).
– Бога, мать, давно нет. Так что вы на мою совесть не давите. Слушайте меня внимательно, насчет ваших сыновей можем договориться, причем недорого (как будто шла торговля рабами): за Николая – одну тысячу керенками или деникинскими рублями, за Сергея – две тысячи. Николая освободим, и с Сергеем решим: пошлем в Екатеринослав бумагу, чтобы его не трогали.
– Мы вам уже дали огромную сумму, и коза стоит больших денег. У нас больше ничего нет.
– Все так говорят. И евреи нынче к Потоцкому с петицией приходили, просили освободить от налогов. Им напомнили о погромах, так сразу нашли. Думай, мать, думай.
Лиза с детьми и Олеся прятались наверху и не могли проводить Николая.
– Поцелуйте всех за меня, – шепнул он маме. – Надеюсь, расстаемся ненадолго. Большевики их скоро выгонят.
– Здоровье-то, здоровье береги, сынок. Завтра мы передачу принесем.
– Деньги Перебейносу не давайте. Обманет.
Когда он влез в повозку, вартовой вытащил наручники и приказал ему вытянуть руки.
– За что же такое наказанье, – запричитала Елена Ивановна, увидев сына в наручниках. – Только от смерти спасли и на тебе, опять.
– Давай, трогай, – сказал Николай Перебейносу, – хватит издеваться.
– Успеется, подумаешь, цацы какие.
На их окраине город спал, ближе к центру жизнь кипела: офицеры прогуливались с дамами, в ресторанах и кофейнях гремела музыка, На Базарной площади около корчмы Юзефа Ясиновского (сейчас ею владел родственник Юзефа Ицхак Цукерман, хитрый и жадный до денег еврей) пьяные солдаты под балалайку отплясывали «барыню». Один маленький, прыткий крутил вокруг себя захмелевшую молодую бабу. Размахивая цветастым платком и, поднимая высоко юбку, так что видны были ее полные круглые коленки в коротких сапожках, она выкрикивала звонким голосом.
Ко мне нонче друг Ванюша приходил,
Три кармана друг Ванюша приносил.
Барыня ты моя, сударыня ты моя,
А-а, друг Ванюша приносил…
– Веселятся молодчики, – зло пробормотал извозчик, – и те веселились, и эти. Как не лопнут от горилки.
– Тимофей, – пригрозил ему Перебейнос, – дождешься, что вздернут тебя за твой язык.
– Я что, я ничего, – спохватился Тимофей, сердито дергая вожжи и охаживая кнутом ни в чем не повинное животное, – пусть себе гуляют на здоровье.
В участке Николая принял заспанный деникинский вахмистр.
– Большевик? – зевая во весь рот, наполненный желтыми прокуренными зубами, спросил он вартового.
– Анархист!
– Все одна сволочь.
– Перебейнос, – сказал Николай вартовому, когда тот снимал с него наручники. – Ты с деньгами к моим не приставай, у них ничего нет.
– А ты за них не решай. Мать-то, небось, поумней тебя будет.
Допрашивать его не стали, а отвели в комнату, до отказа забитую людьми. Не менее ста человек стояли впритык друг к другу, упираясь лицами в чужие потные спины. Воздуху не хватало. Единственное окно с решеткой было наглухо забито гвоздями. Хорошо было тем, кто находился около стены. Они могли прислониться к ней и охладить лицо и тело. Через каждые полчаса их заставляли уступить место другим.
От жары и духоты у Николая начался приступ кашля. Повторялся кошмар, пережитый им однажды в Екатеринославской тюрьме. Кто-то из жалости протолкнул его к задней стене. Опустившись на колени, он прижался к ней горячим лбом. Еще сутки в такой тесноте, и он не выдержит: его здоровье после тифа и воспаления легких не годилось для новых испытаний.
На следующий день его вызвали на допрос. Перебейнос и его свора, видимо, давно готовились к приходу деникинцев, собрав для их контрразведки информацию о тех роменчанах, кто был связан с советской властью или в свое время выступал против самодержавия. Из архивов извлекли сводки агентурных сведений полиции по трем уездам (Роменскому, Гадяческому и Зеньковскому), где постоянно упоминались имена Николая и Сергея Даниленко, имелись документы об их арестах, анкеты, протоколы допросов, постановления Харьковской и Московской судебных палат о мерах их наказания. Были тут сведения и о том, что после приезда из-за границы Николай жил в Харькове и Москве, состоял в анархистских организациях.
Однако допрашивавший его капитан деникинской разведки – молодой человек с чисто выбритым лицом и белыми, холеными руками, о старых его делах упомянул вскользь, а интересовался главным образом связями с Махно и конфедерацией «Набат». Улик на этот счет у него не было, он исходил из того, что каждый украинский анархист – непременно махновец и «набатовец». Николай упрямо твердил, что ехал из России домой, в дороге заболел тифом и несколько месяцев пролежал в Курске. С Махно не знаком, о «Набате» только слышал от других, их газет не читал (все свои материалы в газетах он и его товарищи подписывали псевдонимами). Капитан, как автомат, задавал ему снова и снова одни и те же вопросы, надеясь запутать в ответах.
Разозлившись, Николай поднял рубашку, чтобы продемонстрировать этому «чистюле» оставшиеся кое-где на теле красные пятна. Однако напрасно он это сделал: лицо капитана исказилось от ярости. Отработанным движением, он со всей силой ударил Николая ногой в живот. Скорчившись от боли, тот повалился на пол. На шум вбежал конвоир, вдвоем они набросились на лежавшего, нанося удары по голове и в живот. Так когда-то его избивали в потемкинском парке черносотенцы, и так мучил свои жертвы в екатеринославской тюрьме старший надзиратель Белокоз. Сознание его помутилось, спазмы сдавили горло, и он полностью отключился.
– Кажется, готов, – сказал конвоир, повернув носком сапога неподвижную голову Николая.
– Быдло, дерьмо, тифозная вошь, – со злостью выругался капитан, вытирая тряпкой сапоги, измазанные кровью, – вздумал показывать свой поганый живот. Отнесите его в камеру и окатите водой. К вечеру очухается.
– Перебейнос говорил, что его мать принесла деньги.
– Сколько?
– Как просили за него и его брата, три тысячи.
– Мало. Скажи Перебейносу, чтобы удвоил цифру, инфляция катастрофически растет. А учителя отпускайте домой. Больше из него ничего не выжмешь.
Очнулся Николай от того, что чей-то настойчивый голос повторял: «Товарищ, а товарищ!» С трудом разлепив заплывшие от побоев глаза, он увидел склонившегося над ним человека с разбитыми очками.
– Вы кто такой?
– Я Влас Писарчук, мы не знакомы, но я видел вас в Елизаветграде на съездах «Набата» и в Гуляй-поле.
– А-а-а, – пробормотал Николай и, совсем забыв о главном правиле заключенных: не разговаривать с незнакомыми людьми, которые могут оказаться провокаторами, спросил, – вы связаны с Махно?
– Непосредственно нет. В Елизаветграде состоял в местном «Набате», вынужден был бежать от большевиков. Приехал сюда к сестре, а она оказалась замужем за Перебейносом, он меня сюда и «определил». Бежал от волка, а попал к черту в зубы… Как вы себя чувствуете, можете сесть?
Николай приподнялся и снова опустился на пол. Нестерпимо болели голова и живот с правой стороны. Он провел рукой по лицу. Оно превратилось в кровавое месиво, глаза заплыли, губы еле открывались. Во рту так пересохло, что, казалось, язык прилип к небу. «Хорошо бы сейчас холодного кваску из погреба или вишневой наливочки для бодрости», – подумал он и вспомнил, что мама обещала принести передачу.
– Передачи мне не было? – обратился он к Писарчуку.
– Их не принимают. А если и принимают, то сюда не доходят. Вечером дадут чай и хлеб. Скоро уже, и людей осталось не так много. Заметили, камера опустела.
– Куда же их?
– А это никому неведомо.
– Вы сами давно тут?
– Второй день. Я рад, что мы познакомились. В Ромнах я еще не встречал анархистов, – горячо зашептал Писарчук. – Вы где живете?
«Черт его знает, кто он такой, – вдруг спохватился Николай, – все спрашивает и спрашивает, с другой стороны, зачем ему мой адрес, если они и так обо мне все знают».
– Я учительствую в реальном училище. Там меня всегда можно найти.
– Обязательно разыщу, когда нас выпустят.
– Вы думаете, мы отсюда выйдем?
– Махно собирает новые силы. Деникин долго не продержится.
После ужина Николая позвали на выход. Писарчук помог ему встать и дойти до двери.
– Куда это вас на ночь глядя? – спросил он с тревогой.
– Не знаю, хотят, наверное, добить. Их интересует, где сейчас может быть Махно. Как будто он сидит на одном месте.
В коридоре его подхватил под руки конвоир, другой, не тот, что избивал вместе с капитаном, а безусый, молоденький солдатик, и повел по длинному коридору. К его удивлению, это оказался никто иной, как его бывший ученик Семен Грач, мечтавший когда-то поступить в «Вильне козацтво» к Павловцу.
Миновали комнату, где его утром допрашивал следователь.
– Куда мы идем, Семен?
– Вас отпускают домой. Мать ваша приходила, наверное, деньги принесла.
– Почему вы так решили?
– Они всегда так: как принесут деньги, человека отпускают. А за кого некому заплатить, пускают в расход. Их начальник тут, Кудрявцев, тот, что вас разукрасил, хуже зверя. Видели, какие у него тонкие пальцы? Он ими глаза у людей выдавливает. И вас вон как разукрасил…
– Зачем же вы тут служите?
– Есть надо, а тут неплохо платят. Отца-то моего большевики убили, коней забрали, конюшни сожгли, я их ненавижу.
– Я поищу извозчика и дам вам денег, – сказал Грач, когда они вышли на улицу, – только начальство об этом не должно знать.
– Спасибо вам, Семен, – от души поблагодарил Николай своего бывшего ученика, о котором раньше был не очень хорошего мнения.
Вскоре Николай уже не знал, куда деваться от внимания и заботы своих женщин. Марфа быстро истопила баню и сбегала за Плетневым. Тот предположил, что у него сломаны ребра, отбиты почки и, судя по кровавым подтекам на голове, шуму в ушах и сильному головокружению – сотрясение мозга. Более точный диагноз мог показать рентген, а его в больнице давно не было, аппарат увезли с собой то ли гайдамаки, то ли красные. «Вполне возможно, – сказал он, уходя, Елене Ивановне, – что пострадали печень и селезенка, но это мы увидим потом».
Лиза делала ему примочки на раны, мама и Марфа готовили протертую пищу и кормили с ложки. Все по очереди сидели у его кровати, ловя каждое его движение. Ему было стыдно за свою слабость. И не давала покоя мысль о том, что они заплатили за него большие деньги.
– Мама, – говорил он Елене Ивановне, с трудом ворочая языком, – зачем вы отнесли Перебейносу деньги, меня бы и так выпустили.
– Ни о чем не жалей, сынок, ведь они могли тебя изувечить или убить. Деньги – дело наживное. Нам люди помогли, все наши соседи: Аникий Дмитриевич, Злата Гончар, Паша Кудель, Коротченко и больше всех Агриппина.
– Наверное, это были очень большие деньги. Один конвоир, мой бывший ученик, рассказывал, что цены устанавливает сам начальник контрразведки.
– Агриппина тайком взяла у Ганки три кольца с драгоценными камнями.
– А если откроется? Ганка всех нас сдаст, и мать свою не пожалеет. Не берите у них, мама, больше ничего.
– Колюшка, так выбирать не приходится, – с тоской вздохнула Елена Ивановна. – Живем одним днем, а там, как Бог даст, глядишь, и этих отсюда погонят.
ГЛАВА 2
С наступлением осени в Ромнах увеличилось количество бродяг и беженцев. Приходя со стороны Сабуровского леса, уставшие и голодные, они стучались в ворота их крайнего дома. Их жалели, делились хлебом и овощами, но в дом не пускали, боялись тифа, холеры, чумы и новой болезни, не менее страшной, чем все другие, – испанки (грипп, пришедший из Испании). В конце концов, им все это надоело. Марфа привела откуда-то нового пса Черныша, удивительно умного, доброго и ласкового ко всем членам семьи. Однако стоило кому-нибудь из посторонних пройти мимо забора или постучать в ворота, как пес поднимал неимоверный лай, крутился на месте, рычал, рвал когтями землю. «Истинный черт», – ворчала в таком случае Марфа.
Их дом стали обходить стороной. Если соседям надо было увидеть кого-нибудь из них, кричали через забор. Поэтому, когда однажды вечером раздался настойчивый стук (но не такой сильный, с каким обычно рвутся бандиты или представители власти), все поняли, что это кто-то из своих.
– Коля, – крикнула Елена Ивановна вдогонку сыну, поспешившему к воротам, – ты все-таки спроси, кто там.
– Коля, это – я, Маруся, – услышал он голос с той стороны. – Убери пса, а то он разорвет меня на части.
– Подожди, Маруся, я отведу его в летнюю кухню.
Николай быстро вернулся, открыл ворота и ахнул. Перед ним стояла женщина в котиковой шубке, аккуратной меховой шляпке и длинной узкой юбке, из-под которой выглядывали ботинки на высоком каблуке.
– Bonsoir! Personnes de prendre, – сказала Маруся, довольная, что произвела на него такое впечатление.
– Bonsoir! Madame, vous êtes tout simplement adorable, – ответил он в той же шутливой форме.
– Je vous rendre visite pour quelques jours, prenez?
– Bien sûr, quelle question, vivre ici combien tu veux.
– Добрый вечер! Мадам, вы очаровательны.
– Я к вам в гости на несколько дней, примите?
– Конечно, что за вопрос, живи здесь сколько хочешь).
Из дома выбежала Лиза. Подруги расцеловались. С любопытством рассматривая ее роскошный наряд, Лиза поддержала их игру с французским языком.
– A partir de cette gilet et un chapeau? Tu as l’air simplement élégamment.
– Коля, помнишь, на встрече с Каменевым Ворошилов опозорил меня при всех, намекнув на ограбление магазинов в Екатеринославе? Что скрывать, было такое дело. Я, кстати, себе тогда ничего не брала, все отдавала нашим мужикам, чтобы побаловали жен. А эти вещи дала мне для конспирации Галина Махно. Вот она – модница. Стреляет из любого оружия не хуже мужа и любит шикарно одеваться. У нее в гардеробе, чего только нет. Пока я сюда ехала в поезде, все деникинские офицеры за мной ухаживали, один даже предложил руку и сердце. Не скрою, мне было приятно почувствовать себя женщиной и кокетничать с ними. Я им рассказывала о Париже и своем романе с Роденом, у которого когда-то брала уроки по ваянию. Ведь все это было на самом деле…
Прежде чем пройти в столовую, Маруся захотела посмотреть на детей. Лиза провела ее в комнату, наблюдая за переменой ее лица, сначала умиленного, затем грустного.
– Такие замечательные детки, – вздохнула она, сдерживая слезы. – Счастливая, ты Лиза.
– Может быть, и тебе хватит воевать. Годы уходят, потом будет поздно.
– Да, нет. Видно, у меня другое предназначение.
За столом они сидели втроем. Маруся была то ли грустной, то ли чем-то озабоченной, почти не притронулась к еде, и по просьбе Николая рассказывала о Махно. Дела Нестора Ивановича были не так уж плохи. Уйдя с поста командующего армии, он продолжал небольшими силами воевать с белогвардейцами. Правда, сначала предложил Белашу и некоторым оставшимся при штабе командирам начать борьбу и с большевиками, воевать на два фронта, но те его не поддержали, считая, что для Украины сейчас важней выгнать со своей территории Деникина. Возмутившись, Нестор хлопнул дверью и дал понять, чтобы они поступали, как считают нужным.
– Ты, Коля, знаешь, какой он упрямый, – говорила Маруся шепотом, чтобы не разбудить домочадцев. – Он теперь собирает новую армию. Красные несут серьезные потери. А Троцкий, знай, гнет свою линию – долой махновщину. Недавно опять в своей газете свалил все неудачи Красной армии на Махно, подсылает к нему убийц. Хорошо, верные люди успевают предупредить.
Лиза слушала ее внимательно, но вскоре начала зевать, старательно прикрывая рукой рот: шел третий час ночи.
– Лиза, иди спать, – предложила ей Маруся, – а нам с Колей надо поговорить. Только сначала дай мне какую-нибудь другую одежду.
Вернулась Маруся в Лизином платье и накинутом на плечи полушубком, так как собиралась выйти во двор курить.
– Наливочку будешь? – Николай пододвинул к ней бутылку с домашней наливкой, предусмотрительно поставленной Марфой – помнила, как в прошлый свой приезд Маруся с удовольствием ее пила.
– Буду. И курить очень хочется. Идем в сад, у вас, кажется, там была беседка, и еду захвати. Теперь я выговорилась, можно и поесть.
Николай перенес в беседку стаканы и тарелки с едой. Все было обычное, простое – вареная картошка, домашние соленья, сало, спрятанное от деникинских солдат. Маруся сначала выпила наливочку, смакуя во рту ее аромат. Затем закурила, еще раз выпила наливки и только потом принялась за еду, расхваливая хозяек. Когда она затянулась сигаретой, Николай спросил.
– А как там наши анархисты, Сева, Арон?
– Волин в Кривом Роге заболел тифом, попал к большевикам. Теперь сидит в московской Бутырке. Барон поссорился с Махно и уехал в Харьков.
– Вот так новость. Из-за чего?
– Арон тогда был председателем Реввоенсовета, потребовал, чтобы штаб согласовывал с ним и «набатовцами» боевые операции. Те не согласились.
– Возможно, члены штаба, как военные люди, были правы. Теперь рассказывай про себя. Ты же не зря сюда приехала…
– Мне надо у вас отсидеться несколько дней. Скажу тебе по секрету, мы создали подпольную группу, хотим организовать ряд терактов: убить Ленина, Деникина, Колчака, а еще лучше, взорвать Кремль и белогвардейские ставки тут и на Дальнем Востоке.
– Это напоминает мне «Боевой интернациональный отряд» Борисова, из-за которого мы с Лизой в 908-м году попали в тюрьму. Отряд потерпел полное фиаско. И вашу группу ждет такая же судьба. Убийство Ленина может, конечно, оказать серьезный резонанс, но саму советскую власть уже не побороть. А генералам всегда найдется замена. Был Корнилов, стал Деникин. Есть еще Юденич, Кутепов, Слащев, Мамонтов, Шкуро.
– У Махно тоже много командиров, но без него все дело развалится. И Ленина никто не заменит. Это личности, которые делают историю. Я верю в успех нашей группы.
– Насчет личностей, есть и другое мнение: двигают историю массы, а отдельные личности лишь направляют их. На чем же основана ваша уверенность в успехе?
– Ты считаешь, что советскую власть уже не побороть, а, по-моему, ей очень скоро настанет конец. Кругом бушуют восстания, большевиков везде ненавидят. Если ликвидировать Ленина и Троцкого, их комиссародержавия рухнет сама собой.
– Скажи честно, это затея эсеров?
– Допустим, но нас поддержала наша контрразведка. Ты помнишь Марка Черняка? Так вот, он отправился с отрядом в Сибирь, чтобы устроить покушение на Колчака. Главное сейчас, Коля, доказать всем, что повстанческое движение не подавить никакими силами. Мы были, есть и будем, хоть этот Троцкий вместе с Лениным трижды лопнут. Я их обоих больше всего ненавижу… Бжокач вернулся. Он тоже с нами. – Она потянулась, подняв руки вверх. – До чего же у вас тут хорошо. В саду что-то падает, шуршит, как будто дождь идет или деревья переговариваются.
– Януш тоже сюда приедет?
– Нет. Пришлет на твое имя телеграмму, так что заглядывай на Почту, чтобы у твоей мамы не вызвать переполох. Я помню, как она в прошлый раз на все остро реагировала.
– У нас на Почте свой человек, он знает, как поступать с телеграммами.
ГЛАВА 3
Профессор юстиции Даниленко, начав лекцию, не сразу заметил сидящего в последнем ряду аудитории незнакомого человека, одетого в потертый серый пиджак. Для студента он был явно староват: сильные залысины на лбу, голая макушка, морщины под глазами. Он был занят тем, что рассматривал студентов и время от времени что-то записывал в тетрадь, но не лекцию, так как продолжал писать, когда Михаил, увидев его, невольно остановился и замолчал.
Последнее время по университету ходили слухи, что все студенты и преподаватели находятся под наблюдением ЧК. Не предупреждая декана и лектора, ее агенты могли зайти в аудиторию, записывать заинтересовавшие их фразы из лекции или высказывания преподавателей и студентов. Это было омерзительно!
Лекция, которую читал Михаил, была посвящена поиску доказательств виновности арестованного. В самом начале он упомянул о том произволе и беззаконии, которые в течение двух последних лет творили в Киеве все власти, включая и нынешнюю, советскую. Он сказал бы об этом даже, если знал, что здесь присутствует агент ЧК. Если скрывать правду, то молодое поколение будущих следователей и судей будет брать пример с этих людей, действуя их же методами. Не обращая больше внимания на чекиста, он продолжил лекцию.
Как только прозвенел звонок на перемену, чекист спрятал блокнот в карман и, слившись с толпой студентов, исчез из аудитории.
Михаил направился к декану Спекторскому. С Евгением Васильевичем у него были доверительные отношения. Тот стоял у стола, судорожно вцепившись руками в свое кресло. Лицо его было землистого цвета, как у покойника. Михаил сам был так взволнован, что не стал его ни о чем расспрашивать и с возмущением сказал:
– Евгений Васильевич, у меня на лекции присутствовал агент ЧК. Он все время что-то записывал в блокнот. Пора это пресечь.
– Да, да, я с вами согласен, Михаил Ильич … Но вы еще не в курсе: сегодня ночью арестовали профессора Шестинского и несколько преподавателей. В руки ЧК попал список членов «Союза русского народа», в котором оказались и их фамилии. Ваши родственники Рекашевы тоже, кажется, входили в этот Союз. Помните, давным-давно была история с вашим тестем, когда он выступил против приема евреев на первый курс университета? Теперь большевики уничтожают всех черносотенцев и монархистов. К тому же Шестинского обвиняют в антисоветской пропаганде и организации заговора для свержения большевиков. Вы можете представить Трофима Федоровича в числе каких-либо заговорщиков?
– Я всегда осуждал его за поддержку черносотенцев, но сейчас речь идет о преступной вседозволенности новой власти. Я тоже не приветствую революцию, и таких людей в университете большинство. Что же теперь нас всех за это посадить в тюрьму?
Декан взял со стола раскрытый журнал «Красный террор» (вестник ЧК) и, так как плохо видел даже в очках, поднес его близко к глазам.
– Студенты принесли мне журнал со статьей известного вам Лациса, – сказал он. – В ней есть любопытные рассуждения: «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он (подозреваемый) против Советов оружием или словом. Первым делом вы должны его спросить: к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, каково его образование и какова его профессия? Эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого». Вот вам и ответ на ваш вопрос.
– На словах у них – свобода и справедливость, на практике – диктатура и террор. В таких условиях никакой речи о правосудии быть не может. Да и мы находимся в большом затруднении. Когда студенты меня спрашивают, кто защитит людей от милиции и ЧК, где людей бьют, пытают и убивают без суда и следствия, что я должен им отвечать? Что новая власть отменила все права обвиняемого, что его судьбу решает прихоть чекиста: захочет – убьет, захочет – выпустит?…
– Мы еще не раз вспомним Грушевского и Скоропадского. Отделить Украину от России с ее нынешней властью сейчас было бы самое мудрое решение.
– И то, и другое плохо, – сказал Михаил и, попрощавшись с деканом, вышел из кабинета.
Тут ему пришла неожиданная мысль: написать Протест-петицию в защиту Шестинского от имени преподавательского состава университета. В былые времена с такими протестами против произвола царизма выступали и студенты, и преподаватели. Среди последних есть люди с мировым именем. Они обязаны защитить своих коллег. Он сам напишет этот Протест, первый подпишет его и соберет подписи. Студентов втягивать не будет, если только они сами не захотят присоединиться.
Вернувшись в кабинет декана, он поделился с ним своей мыслью. Тот испуганно замахал руками.
– Михаил Ильич, даже не думайте об этом. Это будет конец университету. Нас всех арестуют и расстреляют.
– Они не посмеют этого сделать, если Протест будет общий. Можно назвать его не Протестом, а просто коллективным письмом в защиту профессора. При желании к нему можно подключить другие вузы: Политехникум, гимназии, библиотеки. Я сам все это организую, иначе мы не сможем смотреть студентам в глаза.
– Прошу вас, остановитесь, с ЧК бесполезно вести переговоры. Они живут в страхе, а страх рождает паранойю. Эта власть серьезно больна.
– И нас хотят заставить жить в страхе, мы уже забыли, что являемся слугами Фемиды.
– Вы еще не осознали до конца сущность этих людей. У них нет ничего святого.
Михаил вышел от Спекторского с твердым намерением осуществить то, что задумал. Он всегда верил в силу человеческого разума, да и по настроению людей в университете знал, что большая часть из них считает Октябрьскую революцию национальной катастрофой, грозящей гибелью науке и культуре, недаром в глазах большевиков все вузы и университет Киева считались гнездами контрреволюции.
Однако что-то случилось с людьми. Опросив по дороге к выходу несколько человек с разных факультетов, он не встретил ни у кого сочувствия. Они шепотом говорили, что их всех ждет судьба Шестинского, никаких документов они подписывать не будут. Кто-то даже предложил, наоборот, выступить коллективно с осуждением заговорщиков, тогда большевики оставят университет в покое. Михаил в ужасе отшатнулся от этого человека.
Только один Елизаров, с которым они недавно наладили отношения, поддержал его и обещал помочь в организации подписей. Женя люто ненавидел большевиков и теперь был связан с какой-то новой тайной организацией, помогал ей искать деньги и вербовать туда людей. Говорил он открыто, зная, что на Михаила можно положиться.
– Вступай тоже к нам, – предложил он, – у нас патриоты старой России.
– Давай решим вопрос с Протестом, а там видно будет, – уклонился от ответа Михаил.
Дома никого не было, кроме Харитона. Все остальные – тесть, Маша с дочкой и кухарка Татьяна (она и Харитон теперь жили у них как члены семьи) ушли в Софийский собор. Сегодня была родительская суббота, и отец Иоанн обещал отслужить панихиду, смотря по обстановке. Новая власть, войдя в Киев, в который уже раз объявила войну церкви и священнослужителям. Многие храмы с приходом разных властей то открывались, то закрывались (чаще насовсем) и нещадно грабились.
Пока Харитон разогревал еду, он взял со стола свежий номер киевских «Известий». Первую полосу открывала статья с заголовком «Никакой пощады» «Это еще, что за угроза», – подумал он, и с возмущением стал читать сообщение новой власти о том, что «карательная часть нового социального уложения выработала проект неизвестного еще буржуазной науке уголовного правового института». «Точные нормы закона» обосновывали красный террор и давали описание людей, «которых с помощью этого нового оружия и нужно выловить» – то же самое, что говорил Лацис в своем чекистском журнале «Красный террор»: при судебном следствии понятие «вины» имеет второстепенное значение, основной, решающий фактор – «происхождение». Статья заканчивалась прямым призывом к доносам и слежке соседей друг за другом.
Харитон звал его в столовую. Михаил спрятал газету в стол и, наспех пообедав, пошел к Софийскому собору встречать своих.
Служба еще продолжалась. Он сел на скамейку в сквере и, достав из кармана карандаш и блокнот, стал сочинять Протест. Особенно не мудрствовал: тема о правах человека была его любимой, а статья в местных «Известиях» просто обязывала его обратить внимание общества на опасность нового социального уложения.
«Поголовное истребление инакомыслящих людей, – быстро писал он, – старый испытанный способ российской власти. Этим простым и удобным приемом борьбы с крамолой свободно и широко пользовались все наши государи. Большевики не только взяли этот метод на вооружение, но и значительно превзошли по жестокости всех своих предшественников. Объявленная ими свобода утонула в крови тех, кто осмелился жить и думать иначе, чем они».
Увлекшись, он вместо короткого обращения написал большую статью. Для коллективного письма она, конечно, не годилась. Он решил дома написать новый Протест, а статью отослать в какой-нибудь юридический журнал, если только редакция осмелится ее опубликовать.
Тем временем двери храма распахнулись, и народ дружно повалил на площадь. Несмотря на антирелигиозную политику, люди продолжали ходить в церковь. Лица их были чистые, просветленные. Катя первая увидела отца и радостно бросилась к нему навстречу.
– Жаль, папочка, что ты не был в храме. Хор сегодня пел просто изумительно.
Поцеловав его, она побежала обратно к Петру Григорьевичу, который шел с каким-то своим знакомым: внучка и дедушка обожали друг друга.
Подошла Мария, обняла мужа, уткнулась лицом в его плечо.
– Хорошо, что ты пришел нас встречать. Я должна тебе что-то сказать, ни за что не догадаешься.
– Катюша получила кучу пятерок.
– Нет. Совсем не то. Что для нас может быть самым радостным?
– Петр Григорьевич решил устроиться на работу…
– Миша, какой ты недогадливый, даже скучно… Я – беременна. Была сегодня у врача, все подтвердилось.
– Самая лучшая новость на свете, – воскликнул он, обнимая ее и нежно целуя.
– Ты, правда, рад? Папа сказал, что сейчас это несвоевременно. Он всегда хотел еще внуков, и вдруг такая реакция. Что-то с ним случилось, я его не узнаю.
– Время сейчас, действительно, сложное, но дети не спрашивают, когда им появиться на свет. Нас много, как-нибудь вырастим, я найду дополнительную работу. Для Кати это особенно хорошо: будет, кроме нас с тобой, еще одна опора в жизни.
– Меня страшат твои слова. Люди в трамвае говорили об аресте университетских преподавателей, Шестинского.
– Я ничего не слышал.
– Странно, что ты не слышал. Шестинского я знаю. Мы все ходили слушать его лекции о Византии… А ты что тут писал? Я видела, как ты был увлечен.
– Мысли для статьи, неожиданно пришли в голову. Идем скорей домой. Надо отметить радостное событие.
Однако за стол сели не сразу, ждали отца Иоанна, обещавшего Петру Григорьевичу прийти следом за ними. Прошел час, два. Протоиерей обычно был пунктуален. Решив, что его задержало что-то важное, начали без него. Несколько раз помянули Ангелину Ивановну и Евдокию Христофоровну, затем выпили за радостную новость о беременности Марии. Завтра было воскресенье, и Михаил позволил себе расслабиться. Снова выпили за Марию, за Катеньку, за отличную кухарку Татьяну. У Михаила повысилось настроение. Он шутил, смеялся и предложил всем завтра погулять по городу.
Опустив голову, тесть задремал. Михаил отвел его в гостиную, бывшую теперь комнатой Петра Григорьевича. Здесь же за перегородкой стояла кровать Харитона. Пройдя затем в свой кабинет, он достал дневник и написал: «Радость, какая нынче радость! Маша ждет еще одного малыша. Если бы она знала, как я ее люблю, как обожаю нашу милую Катеньку: на свете нет другого такого разумного, доброго и светлого ребенка. Повторяю вслед за Петром Григорьевичем: только бы уберечь их от всех ужасов этой жизни.
А Протест я все-таки напишу. Не буду критиковать власть, не буду говорить о чинимых ею безобразиях, забуду про эту окаянную статью в «Известиях». Главное – любыми путями вызволить профессора и других преподавателей из тюрьмы».
Достав из ящика чистый лист бумаги и справочник университета, где были перечислены все преподаватели со своими должностями и заслугами, он написал:
«Председателю городской Чрезвычайной комиссии г. Киева тов. П. М. Дегтяренко.
Уважаемый Петр Михайлович!
Мы, преподаватели Киевского университета св. Владимира, обращаемся к вам по поводу ареста профессора Трофима Федоровича Шестинского, несправедливо обвиненного в заговоре против советской власти. Профессор Шестинский внес большой вклад в развитие отечественной и зарубежной истории, филологии и русского языка. Это один из крупнейших русских ученых и политических деятелей. Он – член-корреспондент Российской академии наук по Отделению русского языка и изящной словесности, заслуженный ординарный профессор Киевского университета св. Владимира, доктор славянской филологии, член многих иностранных академий и почетный деятель ряда общественных и научных организаций за рубежом. Им написано много ценных работ по славянству, византийству и другим направлениям истории и филологии.
Профессор Шестинский имеет учеников и последователей во всем мире. Его открытия описаны во многих книгах и учебниках. Самые известные ученые ссылаются в своих исследованиях на его имя и авторитет. Арест такого человека и других наших, не менее уважаемых преподавателей, вызвал недоумение у их коллег и студенческой молодежи.
Мы не понимаем, как можно арестовать человека только за то, что он не является большевиком, происходит родом из другого, не рабоче-крестьянского сословия, открыто высказывает и отстаивает свои взгляды и свое мнение, возможно, отличные от официальной партийной идеологии.
Инакомыслие не имеет никакого отношения ни к террору, ни к тайным заговорам, ни к переворотам и убийствам. Оно лишь утверждает право человека на то, что он может свободно говорить, писать и мыслить.
Освобождение профессора Шестинского и остальных преподавателей университета, да и других невиновных лиц из тюрьмы станет свидетельством того, что советская власть умеет признавать свои ошибки, и как демократическое государство намерено в дальнейшем осуществлять правосудие только в рамках закона, соблюдая все необходимые правовые процедуры».
Поставив подпись, он поднял голову и прислушался. Ему показалось, что кто-то скребется во входную дверь. Послышался встревоженный голос Петра Григорьевича и шаркающие шаги Харитона.
Михаил положил письмо в Дневник, засунул его глубоко за книжный шкаф и вышел в коридор. Харитон уже открыл замок и разглядывал стоящего на лестнице человека через цепочку (цепочки теперь были во всех домах, но толку от них мало: при желании их можно без труда разорвать).
Это оказался дьякон Василий из Софийского собора. Дьякон тяжело дышал, глаза его так расширились, что вот-вот вылезут из орбит, руки дрожали. Вместо стихаря на нем была обычная одежда.
– Михаил Ильич, не впускайте его, за ним большевики гонятся, – испуганно зашептал Харитон, сердцем почувствовав, что приход такого гостя ничего хорошего не предвещает.
– Харитон, успокойтесь, – Михаил бережно отвел старика в сторону и откинул цепочку. – Проходите, Василий, что случилось?
Из своих комнат вышли Петр Григорьевич, Мария и Татьяна.
– Отца Иоанна убили, – еле выдавил из себя дьякон и, закрыв лицо руками, всхлипнул.
– Маша, принеси воды, – сказал Михаил, чтобы уберечь ее от рассказа Василия. – Ради бога продолжайте, пока жены нет.
– Когда служба кончилась, и основной народ разошелся, в храм вошли красноармейцы и, не обращая внимания на наши протесты, стали складывать в мешки ценные вещи. У икон еще молились люди, они начали возмущаться, отнимать у них мешки с награбленным добром. Двое солдат направились к царским вратам. Отец Иоанн опередил их и встал у дверей, выставив вперед крест. Они…они выстрелили сначала в крест, а потом в него, в самое сердце… Затем всех выгнали из храма и заперли двери.
Вернувшаяся из кухни Мария, все слышала и заплакала. Вслед за ней зарыдала Татьяна.
– Что творят безбожники? – упавшим голосом произнес Петр Григорьевич. – Господь их покарает. Так Иоанн там и лежит?
– Лежит, весь в крови. – Василий снова всхлипнул, по его щекам поползли слезы. – Узнав об убийстве, на площади собрались люди, требовали, чтобы им выдали его тело. Тут подоспели еще красноармейцы и стали в народ стрелять. Я еле-еле оттуда выбрался, дома переоделся и к вам.
– Что же теперь делать? – растерялся Рекашев.
– Вчера к нам приходил один прихожанин, он служит сторожем в ЧК. Есть приказ о том, чтобы из церквей и монастырей изымать церковные ценности, священников арестовывать, сажать в тюрьму или расстреливать. И вообще они объявили врагами всех, кто так или иначе был связан с Радой, Скоропадским и Деникиным.
– Тогда придется уничтожить весь Киев, – в сердцах воскликнул Петр Григорьевич.
– Отец Иоанн к вам хорошо относился. Он всегда говорил, что, в крайнем случае, нам всем надо бежать в монастырь Святого Саввы Освященного под Бахчисараем. Там есть, где спрятаться. Я готов вам помочь и сопровождать в дороге, но только со своей семьей. Думайте быстрей, если откажитесь, мы поедем одни.
– Без сомнения надо ехать, – обрадовался Рекашев, постоянно думая, под нажимом брата, о Крыме. – Там находится белая армия, стоят корабли Антанты. Если что, можно свернуть в Новороссийск или Одессу. Да, мы едем. Едем в Крым. Это решено.
– Петр Григорьевич, – прервал его Михаил, – я никуда не поеду. И Маша с Катей здесь останутся.
– Нет, любезный, – воскликнул тесть (куда подевалась его меланхолия), – вы оставайтесь, если вам угодно, а Маша с Катей поедут без всяких разговоров.
– Папа, – вмешалась Мария, – я останусь с Мишей.
– Мама никогда бы не допустила, чтобы мы расстались.
Михаил был настроен решительно: один раз они уже бежали, в этой поездке Ангелина Ивановна простудилась и ушла на тот свет. Ехать сейчас в Крым через места, где идет гражданская война и орудуют банды, равносильно самоубийству.
– Нет, нет и нет, вот мое последнее слово.
– Лучше будет, если нас с вами арестуют, а потом придут за Машей и Катей?
– Господа, пора прийти к соглашению, – прервал их дьякон. – Я готов прямо сейчас отправиться на вокзал.
– Подождите, Василий, я с вами, только позвоню брату. Он тоже поедет.
Сердито сверкнув глазами на Михаила, Петр Григорьевич повел дьякона в столовую, где стоял еще один аппарат, кроме кабинета Михаила.
Взволнованная Мария подошла к мужу.
– Миша, давай отсюда уедем. Я тоже слышу со всех сторон об арестах. Большевики вернулись надолго и начали серьезно расправляться с неугодными им людьми. Тогда вам с Щербинской повезло. А теперь нас некому защитить. Папа подходит под все категории, которые они объявили врагами…
– Успокойся, Маша. Уехать мы всегда успеем. Иди, пожалуйста, спать, а мне надо поработать в кабинете.
Петр Григорьевич громко разговаривал по телефону, рассказывая брату о плане, который им предложил дьякон, и, судя по интонации тестя, тот его поддержал.
Михаил оставался еще в коридоре, ожидая, когда Петр Григорьевич и дьякон вернутся, чтобы дать тестю деньги на билет, как раздался продолжительный звонок в дверь.
Опять все вышли в коридор.
– Опоздали, это они, – прошептал дьякон побелевшими губами, – не открывайте.
– И бумаги не успели спрятать, – простонал Рекашев. – Остались мои письма и фотографии.
– Папа, ведь давно был разговор, чтобы их уничтожить…
– Рука не поднялась. В них вся моя жизнь.
– Идите все в комнаты, – приказал Михаил, соблюдая спокойствие, – и не выходите, что бы тут ни произошло.
Несмотря на просьбы мужа, Мария осталась в коридоре и, когда дверь открылась, громко вскрикнула: на пороге стояла группа красноармейцев во главе с человеком в черном пальто и черной шляпе.
– Михаил Ильич Даниленко? – спросил человек, сверля его взглядом, не обещающим ничего хорошего.
– Да.
– Вы арестованы.
– Помилуйте, за что?
– За антисоветскую пропаганду… А где ваш родственник, Петр Григорьевич Рекашев?
Михаил промолчал, но красноармейцы уже разошлись по квартире и вывели из столовой Рекашева и дьякона.
– Этого брать? – спросил один из красноармейцев, указывая на дьякона.
– Кто такой?
– Знакомый, – смиренно залепетал Василий, опуская глаза и втягивая голову в плечи, – пришел занять денег… Дети, видите ли, голодают…
– Лицо что-то знакомое, – сказал все тот же красноармеец.
– Это дьякон из Софийского собора, был вместе с попом, которого там пристрелили, – прояснил его товарищ.
– Давай, Гмыря, веди их всех вниз, а остальные начинайте обыск, – приказал чекист. – Мне нужны списки людей, с кем эта контра связана.
– Маша, – прошептал Михаил жене, пока красноармейцы и чекист занимались дьяконом, – если со мной что-нибудь случится, ты знаешь куда ехать (он имел в виду Ромны, о чем у них недавно шел разговор). Харитона и Татьяну держи при себе.
– Михаил Ильич, да что же это такое, – бросился к нему Харитон, когда их стали подталкивать к выходу, – арестовывать невинных людей…
– Харитон, оставляю Машу и Катю на вас с Татьяной. Скоро наша семья увеличится. Все продавайте, что можно, ничего не жалейте. Когда эти уйдут, уничтожьте все мои тетради и бумаги, загляните за книжный шкаф.
– Все исполню, все сделаю…
Катя проснулась и выбежала в коридор, но арестованных успели вывести на лестничную площадку, и туда ее не пустили.
– Папочка, дедушка, – кричала девочка, разрывая их сердца.
– А-а-а, – выла в дверях кухни Татьяна.
Мария застыла около стены, как будто окаменела. Потом вдруг очнулась и бросилась в спальню, чтобы собрать для мужчин вещи, но там красноармейцы производили обыск и велели ей вернуться в коридор. Еще несколько человек обыскивали кабинет Михаила и комнату Петра Григорьевича. Вскоре из кабинета вышел красноармеец, подал чекисту тетрадь (дневник Михаила) и листок бумаги (письмо председателю киевской ЧК).
– Нашли за книжным шкафом…
– Сволочь, – выругался тот, прочитав бумагу, и подозвал Марию. – Муж писал?
– Не знаю, почерк не разберу.
– Он сочинил и подписал. А покрывать будешь, туда же пойдешь.
В сопровождении конвоя мужчины спустились на улицу, где уже стояла группа арестованных жильцов из их дома и соседнего, человек тридцать. Дома были не простые, в них жили состоятельные люди, те, кого большевики презрительно называли недорезанными буржуями, богачами, офицерней, контрой. Некоторых из них Михаил знал; встречаясь на улице, здоровались, обменивались любезностями. В темноте он разглядел стоматолога Скляра, профессора из Политехникума Колганова, бывшего члена Центральной Рады Димнича, главного кассира в Государственном банке на Институтской Горбаня, бывшего ротмистра Герасименко, нотариуса Рабиновича и его старшего сына Марка, учившегося у него на третьем курсе. Михаил считал его способным студентом. Кивнув всем головой, он встал рядом с тестем и дьяконом.
Подошли два открытых грузовика с высокими бортами. Людей разделили на две части. Рекашева и дьякона направили в первую машину. Михаил попросился с ними, его грубо оттолкнули и велели идти в другой грузовик. Рабиновичей – отца и сына, тоже разлучили. Сидя на досках по ходу движения, Михаил увидел, что та машина, притормозив, свернула на Институтскую улицу, а они продолжали двигаться по Крещатику.
– Куда это их повезли? – невольно воскликнул он.
– На кудыкину гору, – грубо ответил ему сосед справа, инженер-механик с завода «Арсенал» Стрельцов, живший на третьем этаже их дома. Его отец был одним из видных членов партии кадетов, депутат Учредительного собрания, убитый в Петрограде в январе 18-го года.
Остальные промолчали. Только незнакомый старик в халате и ночном колпаке, вытащенный, видимо, из постели, с сочувствием посмотрел на Михаила.
– В той машине, – сказал на французском языке Герасименко, ни к кому конкретно не обращаясь, но так, что все слышали, – четыре красноармейца, у нас – двое, скоро будет поворот перед Владимирской горкой, надо прикончить этих двоих и сбежать. Все равно нас расстреляют, а тут есть шанс…
– Я не смогу, – жалобно протянул старик в колпаке, – у меня больное сердце и опухшие ноги.
– Я тоже не побегу, – сказал Михаил… – Они будут мстить нашим близким, у меня беременная жена и дочь-подросток.
– Беру на себя второго, – отозвался инженер-механик Стрельцов, – если нас не расстреляют по дороге, то сделают это в Чрезвычайке. Церемониться не будут.
– Прекратить разговоры, – грубо прикрикнул на них один из конвоиров. – Еще одно слово на иностранном языке, и всех расстреляю.
– А, что я вам говорил, – прошептал Герасименко. – Пощады не ждите. Сейчас будет поворот. Действуем.
– Ради бога, остановитесь, – умоляюще произнес Михаил. – Вы подставите всех остальных…
– А ну вас, адвокат, к черту. Так и так всем конец.
Замедлив на перекрестке ход, машина свернула на Трехсвятительскую улицу. Герасименко резко вскочил и с силой ударил по голове красноармейца, сидевшего рядом с ним; покачнувшись, тот свалился на дно кузова. Второй конвоир сдернул с плеча винтовку, но инженер-механик обрушил на него сзади свой кулак и сбросил тело на мостовую. Подняв с пола его винтовку, Герасименко – сразу видно боевой офицер, привыкший действовать быстро, по обстановке, наклонился вниз и выстрелил в водителя.
Машина резко дернулась в сторону и, уткнувшись в фонарный столб, остановилась. Все быстро спрыгнули вниз (старику в колпаке оказали помощь) и побежали к видневшемуся впереди парку: там был лес, монастырские сады, можно было спуститься к Днепру.
Оставшись один, Михаил все еще раздумывал: бежать или оставаться. Глупо было сидеть и ждать своей смерти, но была надежда, что, наказав его, они оставят в покое его семью… Тут ему пришла новая мысль: спуститься через парк в Печерск и пробраться к Елизарову. Женя не побоится его спрятать, если его тоже не арестовали, и приведет к нему Машу и Катеньку. Они переждут у него несколько дней, а затем уедут из Киева. Куда? Да так же, как он советовал когда-то Николаю: пароходом и дальше, куда глаза глядят.
Перекинув через борт свое крупное тело, он спрыгнул вниз, но из-за упора только на одну руку, упал и повредил левую лодыжку. Вскрикнув от боли, он пересилил себя и, прихрамывая, побежал в сторону парка, куда направились остальные беглецы, не успевшие еще далеко уйти.
Их никто не преследовал. Преодолевая боль, Михаил все бежал и бежал, оставив позади старика в колпаке, Рабиновича и других людей, выбившихся из сил. Все-таки, как-никак, у него была хорошая физическая закалка: на фронте иногда приходилось делать марш-броски по 30, а то и больше верст. Казалось, вот оно спасение близко: еще несколько метров, еще шаг, два, три. Уже видна металлическая ограда парка и темная стена деревьев. Скорей нырнуть в эту гущу. И тут послышался рев мотора. Их догонял грузовик, который они только что покинули. Сидевшие в нем люди открыли оружейный огонь. Это был военный патруль, оказавшийся недалеко от того места, где арестованные расправились с конвоирами. Конвоиры к тому времени пришли в себя. Узнав от них, что произошло, патрульные завели машину и бросились вдогонку за беглецами.
Пули щелкали то слева, то справа, ударяясь о металлическую ограду и железные столбы. Вскрикивали и падали люди. Перед оградой Михаил замедлил шаг, чтобы найти открытый проход или место, где можно перелезть через прутья, и тут же почувствовал удар в голову. Все завертелось вокруг него. Промелькнули родные лица: мамы, братьев, Марии, Катеньки. Маленький ребенок в крестильной рубашке с криком бежал к нему навстречу. Он подхватил его на руки, чтобы прижать к себе, успокоить, но не успел: последовал еще один удар, теперь уже в спину, и он упал, уткнувшись лицом в землю.
Через несколько минут все было кончено. Патрульные медленно обходили убитых, вынимая из карманов вещи и документы и добивая тех, кто еще был жив.
– Хорошо, что рядом парк, – сказал один из красноармейцев, осматривая последний труп – профессора юстиции Даниленко, и переворачивая его лицом кверху, – отнесем их подальше вглубь, никто не узнает.
– Надо позвать ребят, закопать трупы, – возразил другой. – Не по-людски как-то оставлять их без погребения.
– Ты, Копатько, как будто только что родился. Какое к контре может быть людское отношение? Они убили нашего товарища, еще двоих ударили по голове, да и я обещал сегодня своей подружке прийти пораньше. Ты-то все ходишь один, давно бы бабу себе завел. Пойдем завтра с нами в кинематограф. Там бывает много хорошеньких мамзелей из «бывших». Жеманные, но податливые.
– Не-е-т, я буду отсыпаться. Из-за этих буржуев не сплю второй месяц. Послезавтра поедем в Лавру. Там работы на неделю. – Он внимательно посмотрел на профессора. – Знакомое лицо. Кажись, был у нас командиром в 15-м году. Ничего был командир, солдат уважал.
– Это – адвокат Даниленко. Тот, что еврея Бейлиса защищал.
– Я о таком не слышал.
– Так ты ж не местный. Было здесь до войны одно шумное дело. Этого жида Бейлиса судили за ритуальное убийство русского парнишки, да не смогли доказать его вину. Настоящую убийцу, воровку Верку Чеберяк, тогда освободили, так наши ее на днях отыскали и расстреляли за все ее дела…
– Так ей и надо. А адвоката зря прихлопнули.
– Так кто их разберет, когда бегут? Не бег бы, может быть, и жив остался. Теперь-то, что руками разводить.
ГЛАВА 4
Долгое время Ромны, занятые Добровольческой армией, были оторваны от всего мира. Украинские газеты приходили редко, деникинские же радостно сообщали о своих успехах на фронте. Казалось, еще немного, и белые войдут в Москву и с корнем уничтожат красную заразу. Многие роменчане, особенно евреи и те, что лишились своей собственности, ждали, что эти доблестные воины, как они обещали в начале своего похода, наведут порядок, восстановят прежние учреждения и права, вернут хозяевам заводы и фабрики, прекратят еврейские погромы, грабежи и поборы с населения. Но все армии действовали по одному сценарию, и при белогвардейцах грабежи и разбой продолжались в тех же, если не больших размерах. Убийствам не было конца.
Вновь по всей Украине разлилось крестьянское восстание, сводившее на нет все военные успехи Деникина в сражениях с Красной армией. Как можно было понять из белогвардейских газет и листовок, серьезным противником их был Махно, сумевший собрать новые силы после того, как его вынудили оставить пост командующего. Другую угрозу представляли войска Петлюры, нажимавшие на белогвардейцев со стороны Азовского моря и Мариуполя. И тех и других Деникинский штаб упорно стремился привлечь на свою сторону. Петлюра, как и Григорьев, было, согласился, но вовремя отказался, мечтая о создании независимой Украины и своей собственной власти. Махно моментально расправился с послами, прибывшими к нему с таким предложением.
И вот новые известия. Махновцы вошли в Умань, где стояли части УНР, и предложили Петлюре военный союз. Такой союз был подписан при сохранении полной автономии обеих армий. Махновцам также была обещана после общей победы над врагом автономия «махновского района». В оперативном отношении Махно обязывался согласовывать со штабом Петлюры свои стратегические планы. Без сомнения, Нестор пошел на этот альянс, чтобы получить от своих «союзников» военное снаряжение, и его войска тут же нанесли сокрушительный удар белогвардейцам под Уманью, Екатеринославом, Бердянском и Мариуполем. Весь тыл деникинской армии оказался разгромлен, повстанцы захватили огромные запасы военного вооружения и начали наступление на Таганрог, где находилась ставка Деникина. Небольшие силы, выставленные белыми против Махно, легко разбивались его отрядами. Деникину пришлось снимать части с основного фронта. Таким образом, махновцы помогли Красной армии остановить наступление врага на Москву. Спохватившись, Деникин бросил против них свои наиболее боеспособные части, в частности, казачью кавалерию Шкуро, но поздно: те уже подходили к Синельникову и угрожали артиллерийской базе Добровольческой армии в Волновахе.
Расквартированный ранее в Ромнах полк генерала Потоцкого спешно покинул город, отправившись на поля сражений. Остались только тяжело раненные и больные тифом. На улицах стало непривычно тихо и пусто. Только вдалеке часто и глухо гремели орудия. Там не прекращались бои. «Кто же теперь к нам пожалует?» – задавались вопросами роменчане, с тревогой прислушиваясь к взрывам и пулеметной дроби. Беженцы и дезертиры, бегущие как из белых, так и из красных частей, говорили, что советские войска ведут бои с белогвардейцами в Засулье, Глинске и Хоминцах. Белых много, но красные лучше вооружены: у них два бронепоезда, пушки и пулеметы. Они все равно деникинцев побьют. И точно: через три недели красные вошли в город.
Снова Ромны поменяли одежду. На домах появились красные флаги, большевистские лозунги и объявления. По домам и квартирам бегали интенданты, определяя солдат на постой, конфискуя продукты, лошадей и фураж для них.
Не прошло и двух часов, как к зданию, где расположилось военное начальство, потянулись жители с жалобами на грабежи и насилие. На крыльцо вышел высокий, лысый человек, с рыжими, обвисшими усами, и заявил, что красноармейцы воровать не могут. Это, пользуясь моментом, бесчинствуют местные грабители или бандиты, выпущенные белогвардейцами из тюрьмы. Тут же были вывешены приказы о борьбе с мародерами и для устрашения жителей на Базарной площади расстреляли двух человек (весьма безобидных на вид мужичков, с котомками на плечах: нищих или беженцев).
Все это видели из окна школы (так теперь называлось училище) Николай и его ученики. Это зрелище было не для детей, но Николай не мог удержать ребят на месте. Жизнь за окном для них была намного интересней любого учебника по истории или литературе.
Николай отпустил их домой и поспешил на свою окраину. Брать у них давно было нечего, но к ним могли определить на постой солдат – на этот раз их было очень много, они все тянулись и тянулись в город пешком и на обозах: с пушками, пулеметами, санитарными фургонами.
Подходя к своему дому, он услышал стук топоров и мужские голоса. Ворота были распахнуты настежь. Во дворе стояли повозки, рядом паслись кони. В саду рубили деревья, спиленные ветки и стволы складывали около дома и летней кухни. Из всех труб валил дым, видимо, топили уже несколько часов подряд.
– Хозяин? – грубо спросил его какой-то «чин» с мрачным лицом, руководивший всеми работами. Погон и званий в Красной армии не было, так что, поди, определи, что это за начальник. – Ваши женщины тут шум подняли. Чтобы не было недоразумений, передаю тебе устный приказ командира полка: все дома на вашей улице занимают 6-я и 7-я роты, вашей семье отводится летняя кухня. Сейчас там устроили баню и стирку, как все закончим, можете туда переезжать.
– Это помещение не приспособлено к зимним условиям, а у нас маленькие дети.
– Тебе сколько лет? Почему не в армии?
– Страдаю эмфиземой легких, освобожден еще с первой мировой войны.
– Мы отговорок не принимаем.
– Кроме того, за последнее время два раза болел тифом. Еще не совсем выздоровел.
– Тифом? – это слово на всех действовало, как разорвавшаяся бомба, – пройдешь осмотр нашего врача. Да смотри, без напоминаний, – усердно «тыкал» ему «большевистский чин».
Николай прошел в свои комнаты. Испуганные женщины собрали вещи для переезда и ждали его.
– Что, сынок, делать, – спросила Елена Ивановна, – может быть, пойти к их главному начальству, как в прошлый раз?
– Не спешите, мама. Я узнаю, кто тут у них старший, и сам поговорю с ним.
– Они не слушают, ссылаются на приказ.
– И у тех был приказ, и у этих. Хотят меня мобилизовать в Красную армию. Посылают к своему врачу.
– Час от часу не легче, вот еще напасть. Без тебя тут бумагу принесли. От какого-то военного комитета. Послушай: «Милостивый Государь! Военно-революционный комитет, в лице народного комиссара Штаба по борьбе с контрреволюцией потребовал от имущего класса г. Ромны взноса пятисот тысяч руб. (500 000), во исполнение чего Вы приглашаетесь к 10 часам утра 15 января с. г. в помещение Роменского Земельного банка для взноса 1000 р., причитающихся с Вас по разверстке. Суммы могут быть внесены деньгами или чеками на любое кредитное учреждение города. При этом Вы поставляетесь в известность, что при неисполнении требования Штаба народного комиссара по борьбе с контрреволюцией будут применены следующие меры: арест и конфискация имущества и прочие суровые меры вплоть до повешения лиц и представителей учреждений, не внесших денег по раскладке. Покинувшие злонамеренно город с целью уклонения от обложения подвергнутся конфискации всего имущества. Комитет по сборам».
Обычно такие документы печатались на бланке. Этот же был на простой бумаге, хотя и набран типографским способом, без номера, числа и подписи.
– Непонятно, что за комитет. И милостивых государей давно нет. Откуда она у вас?
– Кто-то под дверь комнаты подсунул.
– Очевидные аферисты, даже смахивает на какую-то провокацию. Выбросите эту бумагу и забудьте про нее.
– Ты бы, Коля, поел, – продолжала суетиться мама. – У нас картошка закутана в одеяло.
– Спасибо, мама. Поедим все вместе чуть позже. А я пойду все-таки поговорю с ними.
Николай спросил у солдат, складывавших в коридоре поленья, кто тут у них старший.
– Скорик Федор Тимофеевич. Он у вас на втором этаже. Ранен в руку. Пьет и ругается. Вы с ним поаккуратней.
На лестнице ему перегородили дорогу двое красноармейцев.
– Вы куда?
– Я – хозяин этого дома. Мне нужен ваш командир.
– Он ранен, сильно страдает.
– Мне надо с ним поговорить.
Солдаты переглянулись
– Идите. Вторая комната направо.
Он подошел к комнате, которая когда-то была их с Сергеем детской. Оттуда, как ни странно, доносилось пение. Густой баритон выводил:
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
Постучав в дверь и не дождавшись ответа, Николай вошел. На кровати полулежал мужчина лет 40 в галифе и белой рубахе, накинутой на плечи. Рядом сидел другой, полный, лысый, видимо, врач, и бинтовал ему руку. Одновременно он смотрел на открытый рот своего пациента и, поймав нужный момент, вторил раскатистым басом: «Д-о-н, д-о-н, д-о-н». Они были так увлечены своим занятием, что не заметили прихода постороннего человека. .
– Федор Тимофеевич? – обратился Николай к главному певцу.
– Допустим, я, – сказал тот недовольно, что прервали их занятие. – Кто пропустил, что надо?
– Я – хозяин этого дома. Нас выселяют в летнюю кухню, не приспособленную для жилья, а у нас маленькие дети, старая мать и тетя.
– Кто выселяет?
– Ваши товарищи, другой командир или комендант.
– Здесь нет командиров, кроме меня.
– Это – Клыков, – вмешался доктор и пояснил Николаю, – полковой комиссар.
– Люди устали, – сказал командир, внимательно оглядывая своего собеседника и тоже, наверное, думая, почему он не в армии, – их надо накормить, напоить, они горячего не ели целую неделю, спали на снегу, а у вас тут целые хоромы, оранжерея… Буржуи.
Их дом опять не давал никому покоя.
– Какие ж мы буржуи!? Живем собственным трудом. Я учительствую, матери другие братья помогают. У нас большая семья, все работают.
– Советскую власть признаешь?
– Меня об этом спрашивали в деникинской разведке, чуть не убили
– А вот это уже интересно. Как же они тебя выпустили?
– Мать продала бижутерию жены, отнесла за меня выкуп.
– А…значит, правду говорят, что они за деньги продаются. Били здорово?
– Здорово. Так изувечили, что две недели лежал, не вставая.
– На войне был?
– Нет, я в 908-м году сбежал из Екатеринославской тюрьмы, в то время был в Париже.
– Так ты из Екатеринослава? – оживился Скорик. – Мой родной город. Петровского знаешь?
– Еще бы. Вместе с ним Чечелевскую республику в 905-м году организовывали. Я выпускал Бюллетень для рабочих.
– Верно говоришь, помню эту газету. Я тогда на железной дороге работал.
– Ну, так я прекрасно знал вашего Ратькова. Мы вместе с ним, Ниной Трофимовой и профессором Трептигоревым принимали в железнодорожных мастерских делегацию из Москвы.
– Тебе повезло, товарищ. Я лично знал и Ратькова, и Петровского.
– Сейчас там в Горкоме партии мой брат, Сергей Ильич Даниленко. Я в Екатеринославе недавно был, беседовал с Трофимовой и Ковчаном. – Он хотел сказать о гибели Вани и похоронах на городском кладбище, но вовремя спохватился: Скорик мог проговориться об этом Елене Ивановне.
Командира растрогали старые воспоминания. Он разрешил им остаться в своих комнатах и попросил прислать кого-нибудь из женщин ухаживать за ним.
– У меня к вам просьба, – сказал Николай. – Прикажите не рубить деревья в саду. Летом пойдут ягоды и фрукты. Ешьте себе на здоровье, а для нас это главный заработок, относим все на базар, да и горят эти деревья плохо. За садом есть березовая роща. Самое лучшее дерево для топлива.
– Хорошо, хорошо. Скажите комиссару, чтобы направил солдат в рощу, да женщину какую-нибудь помоложе ко мне пришлите, пока доктор здесь, даст ей указания.
Марфа возмутилась просьбой командира прислать к нему женщину помоложе. «Знаем мы их козни, у них одно на уме», – и сама поднялась наверх, но вскоре вернулась обратно: из госпиталя прислали молоденькую медсестру. Слово «молоденькую» она произнесла с явным намеком на ее другое предназначение.
Красноармейцы обслуживали себя сами: топили баню, стирали белье, готовили еду. Продукты им привозил толстый рыжий интендант, строго учитывающий каждый грамм муки и мяса. Не наедаясь своими скудными обедами, солдаты просили у хозяев хлеба и овощей, и, видя, что у тех самих всего мало, рыскали по соседним домам, бесцеремонно отбирая все, что им приглянулось. У Агриппины забрали всех кроликов и кур, а заодно ковры, шелковые покрывала и тяжелые гардины, приспособив их для тюфяков и одеял. И жили эти товарищи шумно. Глядя на своего командира, развлекавшегося с молодой медсестрой, приводили женщин, пили с ними самогон и орали до утра песни.
Комиссар ругался с командиром, командир ругал комиссара, тот устраивал головомойку солдатам, но это на них не особенно действовало. И пели, и плясали, и ругались, и врывались в половину хозяев, стуча среди ночи в двери и требуя самогон. Черныша увели в конец сада, но он так бурно реагировал на голоса в саду и звук топоров в роще, что и там без конца лаял и рычал до хрипоты. От греха подальше его отвели к деду Афанасию, у которого из-за маленькой площади стояло всего шесть человек. Его жена Полина умерла прошлой осенью, лошадь околела, племянник от горя запил и связался с какой-то бандой, занимавшейся грабежами и убийствами в городе и соседних селах. Теперь по доносу его разыскивала местная ЧК.
Убирая каждый день все помещения дома, Марфа жаловалась своим, что стены повсюду исписаны неприличными словами и разрисованы такими картинками, что о них даже стыдно говорить.
Красноармейцы, главным образом парни из русских крестьян, считая хозяев господами, старались как можно больше навредить им. Дошли до того, что разобрали на дрова беседку и поставили на этом месте нужник. В прошлый свой приход Красная армия вела себя намного приличней. Это, видимо, зависело от командиров. «Господи, когда же кончатся эти издевательства? – вопрошала Елена Ивановна. – Кто найдет на них управу?»
С приходом большевиков в городе появилось много советских газет и листовок. Дела Красной армии на Южном фронте складывались успешно. Ей удалось почти целиком выбить Добровольческую армию из Украины и с Кавказа, загнать ее в Крым. Однако она никак могла покончить с махновским повстанчеством. С белого фронта специально были сняты дивизии 13-й и 14-й армий и брошены в Гуляй-польский район. Но красноармейцы, зная, кто такие махновцы, не хотели их расстреливать. Пришлось вызывать с других фронтов карательные войска, в которые входили эстонцы, латыши, китайцы, татары, отличавшиеся особой жестокостью.
В январе в Крым против Слащева была послана только одна 46-я дивизия. В это же время против махновцев действовали ВНУС, ВОХР, ЧОН, милиция, части местного формирования, особые и продовольственные отряды, чрезвычайные комиссии. Троцкий давил и давил повстанчество, по-прежнему считая его более опасным, чем белая армия.
ГЛАВА 5
Весной 1920 года на юге России появились новые враги: польские войска Юзефа Пилсудского, снаряженные французами и англичанами для борьбы с красной чумой, и Добровольческая армия, теперь уже под командованием генерала барона Петра Николаевича Врангеля (Деникин подал в отставку). И те и другие сумели занять значительную часть Украины, поляки вместе с Петлюрой вошли в Киев. Вся контрреволюция подняла голову, возлагая особую надежду на «болярина Петра», обещавшего освободить от красной нечисти родную землю. Новоявленный «болярин» пытался объединить все антисоветские силы, включая и Махно, однако махновцы расстреляли прибывших от него парламентеров. Видя в лице Врангеля и поляков новую угрозу для украинского народа и социалистической революции, армия Махно включилась в борьбу и с ними. При этом курс на уничтожение самих махновцев, как злейших врагов советской власти, со стороны большевиков продолжался, а Москва еще прислала на помощь местной ЧК самого Дзержинского.
Газеты то и дело сообщали о разгроме того или иного махновского отряда и расстреле его командиров. Особенно в этом усердствовала 1-я конная армия Буденного, специально переброшенная для этого с Кавказа на Украину. Ее войска проходили через села, «выжигая махновскую язву каленым железом», расстреливая крестьян, когда-либо бывших в партизанах, а ныне сидящих по домам и уставших от войны и преследований.
Читая эти сообщения, Николай Даниленко поражался мужеству и стойкости повстанцев. Что было с «Набатом» и его близкими друзьями: Бароном, Волиным, Марусей Нефедовой, Гаранькиным, Аршиновым, он не знал. Пытался разыскать в городе анархиста Власа Писарчука, с которым сидел в роменской тюрьме при белогвардейцах, но тот, как сквозь землю, провалился. Наконец Дорошенко удалось узнать от бывшего надзирателя тюрьмы Головко, что большевики еще в прошлый свой приход расстреляли всю семью Перебейноса, а заодно с ней и брата его жены – анархиста Писарчука, причислив его к махновцам. Возможно, в Ромнах были и другие анархисты, но Николай был оторван от политической жизни города.
В середине лета большевики распространили в городе Обращение Раковского и Дзержинского (от 25 июня 1920 г.) к крестьянам Екатеринославской губернии, призывая их к открытому выступлению против Махно и его убийству. «Братья крестьяне! – говорилось в нем. – Вновь опустились на ваши поля старые царские вороны. Уже третий раз белогвардейская нога оскверняет свободную Советскую Украину, в третий раз белогвардейская кавалерия будет топтать ожидаемый с таким нетерпением урожай…
Но то, что должно возмутить вас, всех крестьян, – это не столько наступление белогвардейцев, сколько преступные подвиги батьки Махно. Барон Врангель во главе царских золотопогонников, помещичьих сынков, обманутых донцов и кубанцев сражается, не скрывая ни перед кем, что он враг народа. В тысячу раз более преступным и подлым является Махно. Он называет себя якобы защитником рабочих и крестьян. Этот наглец имел дерзость обвинять рабоче-крестьянское правительство Украины (в том), что якобы оно недостаточно защищает рабочих и крестьян, а что его настоящим защитником является он – Махно. Давно уже мы сорвали маску с этого контрреволюционера. Давно сами рабочие и крестьяне могли убедиться по его делам, что он враг их освобождения, что он срывает Советскую власть, что он грабит скарб и скот крестьян, как ограбил в Екатеринославе ломбард с оставшимися там пожитками рабочих и беднейшего люда, что он из революции сделал для себя и для подобных себе авантюристов доходное предприятие. В то время, как сам Махно живет в роскоши от награбленного в деревнях, он взрывал железнодорожные мосты и пускал под откос маршрутные поезда с хлебом, отправляемые для голодающих рабочих Донецкого бассейна. Он разрушал то, что с таким страшным трудом удалось рабочим и крестьянам восстановить.
Да, давно честные и сознательные крестьяне отвернулись от Махно, но находятся еще и такие малосознательные, которые поддаются махновскому обману. Теперь и для этих должно стать ясным, что Махно — предатель и изменник рабочих и крестьян. Им мы сообщаем, что Махно открыто вошел в союз с помещиками и контрреволюционерами. Это мы говорим не как предположение, а как факт, который ясно вытекает из всех перехваченных в последнее время Советской властью документов. Во-первых, при раскрытии павлоградской петлюровской подпольной организации стало очевидно, что в отряд Махно влилось множество петлюровских офицеров, между ними и бежавший из Павлограда накануне своего ареста Щеденко. Его отряд слился с отрядом Махно. Выяснилось, что между махновскими и петлюровскими бандами даже была определена разграничительная линия в Ново-Московском уезде. Быть в союзе с петлюровскими офицерами, для всякого ясно, означает быть в союзе с самими польскими панами.
Махно – петлюровский агент, Махно – агент польской шляхты, но не только это. Мы перехватили курьеров, поддерживавших связь между Врангелем и Махно. В наших руках находятся документы, которые скоро будут оглашены. Врангель наступает после предварительного соглашения с Махно. Таким образом, Махно, который смеет называть себя революционером, является в сущности продажным и низким бандитом, который живет обманом и обманывает не только крестьян, но и часть своих собственных товарищей.
Вся эта шайка – Врангель, Петлюра, Пилсудский, Махно – составляет одну преступную компанию, цель которой восстановить власть помещиков, царских генералов и гетманских вартовых. Каждый крестьянин, который не желает своей собственной рукой вновь сковать цепи рабства, подпасть вновь под сапог царской военщины и согнуть снова свою спину под гнетом помещиков, должен содействовать изловлению махновцев.
Их нужно ловить и истреблять, как диких зверей. Всякая помощь, оказанная махновским бандитам, является величайшим преступлением перед революцией. Тот, который понимает теперь, какое преступное дело совершает Махно, и будет все-таки оказывать ему содействие, подвергается самой тягчайшей каре со стороны рабоче-крестьянской власти. Махновским бандитам должна быть отрезана всякая возможность получать пополнение и снаряжение из деревни. Их нужно гнать от крестьянских хат. Деревня, которая допустит, чтобы отдельные лица из крестьян оказывали содействие Махно, будет занесена на черную доску, и против нее также будут приняты строгие карательные меры. Крестьяне должны около себя и у себя наблюдать за действиями махновских агентов, должны их ловить и немедленно передавать Советской власти.
Рабоче-крестьянская власть, считаясь с тем, что среди махновцев есть еще одурманенные и обманутые хитростью Махно, его фальшивыми фразами, предлагает им перейти с оружием на сторону Советской власти…».
Николай дважды перечитал Обращение. В каждом его слове содержалась возмутительная ложь против махновцев и лично Махно. И какой ужасный язык: «этот наглец», «вся эта шайка», «ловить и истреблять, как диких зверей», «содействовать изловлению махновцев». Как будто его авторами были не крупные партийные деятели, а бульварные писаки-псы, получившие от хозяина приказ: «Ату его!». Нестор вновь попал в страшную западню, из которой вряд ли вырвется.
Прошло три месяца, и вдруг газеты сообщили о заключении союза между махновцами и большевиками, чтобы вместе бороться с Врангелем. С 27 сентября повстанцы прекращали враждебные действия с Советской властью и становились союзниками Красной Армии против ее врагов. «Повстанцы идут рука об руку с рабочим классом и умеряют столкновения середняка с пролетариатом, выхватывая его из-под влияния кулака», – писала «Правда», еще вчера призывавшая крестьян истреблять махновцев, как диких зверей. Она же опубликовала взаимный договор, состоящий из многих пунктов, которые должны были соблюдать та и другая сторона. Анархистам разрешалось выйти из подполья, свободно вести свою работу, издавать газеты и журналы, проводить собрания и форумы.
Новость потрясла Николая. Не верилось, чтобы после всех своих козней против Махно, Троцкий и Ленин отважились на такой союз, и сам Нестор пошел на сближение со своими кровными врагами. Как Николай потом узнал, был еще один пункт, четвертый, касающийся политической части соглашения, который Ленин и Троцкий не спешили подписывать. В нем махновцы поставили вопрос о свободной организации на территории, контролируемой махновской армией, органов экономического и политического самоуправления, их автономии и федеративной связи с государственными органами. Не был он подписан и потом, когда махновцы вступили в ожесточенные бои с врангелевцами.
Пока он раздумывал, что бы это значило и что теперь делать дальше, в Ромны пришло два письма: одно – от Арона Барона с приглашением немедленно приехать в Харьков с семьей и продолжить там работу (оказывается, еще в сентябре на подпольной конференции КАУ Николая выбрали в секретариат «Набата»); второе – из штаба Гуляй-поля, с мандатом на Всероссийский съезд анархистов, который открывался в Харькове 20 ноября. На мандате стояла печать РВС махновской армии и подпись одного из его членов Авраама Буданова. Это был своего рода привет от Махно.
Лиза первая сказала, что надо ехать, не раздумывая. Их прежняя крепость, на которую всегда ссылался Николай, – дом, сад, огород, рухнула под пятой новой власти. Денег не было, в советской школе учителям платили жалкие копейки. Впереди их всех ждала голодная зима.
Тут еще после ухода частей Красной армии из города Советы начали уплотнять владельцев квартир и собственных домов. Этому предшествовали развешенные повсюду объявления «Буржуазия посунься!», звучавшие как призыв к действию: «…буржуазию скрутити, заставити працювати на робитниче-селянську владу. Хай почувае буржуй, що его счастливы денечки бесповоротно минули и жодні знайомства с комиссарами и десятиаршинни охоронни грамоти його не захистять… Робитники, беритьця за кватирну справу, выкидайте дармоiдiв, переселяйтесь сами».
Через три дня в их дом въехало, правда, не самочинно, а по ордерам (так оперативно работала новая администрация) несколько семей, заняв даже, как отдельные помещения, оранжерею, будуар при бывшей спальне Елены Ивановны и летнюю кухню. Не успев обжиться, новоселы заявили прежним хозяевам, что хотят пользоваться плодами сада, и быстро поделили между собой все деревья и кустарники, оставив Даниленко две вишни и три куста крыжовника. Так же быстро распределили всю свободную землю под огороды, единогласно постановив ликвидировать розарий и шары самшита перед домом. Больше всех кричали и командовали две толстые бабы, известные торговки крадеными вещами на базаре. Обе они вошли в домовой комитет, а та, что была постарше и погорластей с фамилией Кулик, стала его председателем.
– Раневские, хоть получили за свой сад деньги, – говорила сквозь слезы Елена Ивановна, наблюдая из окна, как жильцы варварски расправляются с шарами самшита и розарием, – а мы довольствуемся только унижением и оскорблениями. Хорошо, что ваш папа не дожил до этого дня.
И это все можно было бы пережить, если бы не хамское поведение новых жильцов. Слово «буржуи» так и витало в воздухе, давая право «пролетариям» безнаказанно издеваться над бывшими хозяевами дома и строить им козни. Наивная Марфа разбила на своей стороне грядки с цветами, надеясь, как все предыдущие годы, торговать ими на базаре, однако каждую ночь их кто-то упорно срезал или вообще выкапывал с корнями.
Так же бесцеремонно «злоумышленники» обирали по ночам их две вишни и крыжовник. Воров выследили и пристыдили, поговорив с ними с глазу на глаз. Затем, когда и это не помогло, пожаловались в домовой комитет, но никто не собирался на них воздействовать. Наоборот, в отместку за эти жалобы на Даниленко наложили двойную повинность в виде уборки мест общественного пользования, а Кулик пригрозила, что, если они будут и дальше беспокоить пустяками домовой комитет, их вообще выгонят из дома. Из-за этих угроз Елене Ивановне пришлось срочно пойти в Совет депутатов и получить официальный документ (ордер) на их две комнаты.
Такое же положение было у всех соседей, кто жил в собственных домах и больших хатах, кроме Омельченко. Ганка успела выйти замуж за председателя горисполкома, пожилого однорукого латыша, и привела его к себе. Никого из посторонних туда не вселяли. У ворот круглые сутки стояла охрана – часовой с винтовкой. По утрам за председателем приезжала черная машина. Ганка выходила его проводить, крепко целовала в губы и долго махала рукой, пока машина не сворачивала за поворотом. После этого она гордо оглядывала всех, кто сумел застать эту сцену. Часовой отдавал ей честь и закрывал за ней ворота.
Забегая к Даниленко поболтать, Агриппина приносила что-нибудь из съестного и жаловалась на дочь, мол, та хочет выселить ее в летнюю кухню, чтобы необразованная мать не позорила ее перед сослуживцами мужа, приходившими к ним в гости.
– Видели бы вы этих сослуживцев, – возмущалась она, – пока трезвые, говорят Ганке: «товарищ Ганна», «спасибо», «пожалуйста», жмут руку. Водку пьют целыми ящиками. А как напьются, забывают все свои «спасибо» да «пожалуйста», лезут к Ганке целоваться в губы, требуют пригласить подруг. Тьфу, гадость. Говорят, у этого однорукого в городе две любовницы и еще где-то в Москве или Риге жена и трое детей. Старый черт, а туда же лезет.
– Куда же Ганка смотрела, когда с ним сходилась? – удивлялись Елена Ивановна и Марфа.
– Так браки теперь не настоящие, гражданские, свободная любовь по-ихнему. Зато у нас все есть: водка, мясо, черная и красная икра, жильцов не вселяют. И вещи однорукий тащит, не хуже Степки. Чуть ли каждый день вручает Ганке то новое колечко, то ожерелье. На днях принес браслет с буквой «П», наверное, от убиенных Пшеницыных. Их Степка тогда еще расстрелял, а вещи взять не успел, пропал куда-то. Теперь вещи где-то всплыли, а наш безрукий их рекзивировал.
– Реквизировал.
– Одним словом, себе в карман положил, – махнула рукой Агриппина, не в силах выговорить трудное слово…
Пользуясь хорошей погодой, Николай сделал со своей стороны в стене выход во двор, пристроил туда сени и крытое крыльцо. В сенях поставил небольшую печку с тремя конфорками для приготовления пищи. Ему помогал Ваня Прокопенко, жених Олеси, которого Даниленко считали членом своей семьи. Николай мог уезжать со спокойной душой: у женщин здесь оставался надежный защитник.
В дорогу собрались в середине ноября, к началу анархистского съезда. Мама заставила их взять с собой подушки, одеяла, постельное белье. Все было свернуто в тугие узлы, обтянуто специальной материей, прочно зашито суровыми нитками. К ним присовокупили короба с посудой, ведра для соленья капусты и огурцов, две керосинки, три мешка с овощами и фруктами.
Лиза с ужасом смотрела на эту гору вещей.
– Мама, – жалобно говорила она Елене Ивановне, – мы сами все это купим в Харькове.
– Когда вы еще купите, а готовить обед и спать на чистой постели надо будет уже завтра. В Харькове вас встретят Колины друзья, помогут все доставить на место.
Здесь им помогали соседи. К дому подогнали две повозки. Накануне было решено, что мама, сестра и Марфа на вокзал не поедут. Долго укладывали и привязывали вещи и мешки с овощами. В сотый раз целовались, обнимались: Елена Ивановна никак не могла расстаться с внучками. Маленькая Оля, в конце концов, не выдержала и расплакалась. Вере, хоть и жаль было расставаться с бабушками и тетей, не терпелось скорей отправиться в дорогу путешествовать – она еще помнила, как они ехали из Нью-Йорка в Россию на пароходе и в поезде, и как интересно было смотреть в окно.
В последний момент Елена Ивановна вспомнила, что забыли взять крестильную рубашку Оли. Побежала за ней в дом и, обливаясь слезами, вручила ее Лизе.
– Когда будет нужда, оденешь ее на Олечку, да и на Верочку можно. Бог сохранит наших девочек.
– Все будет хорошо, мама, – сказал Николай, еще раз целуя всех напоследок. – Как-нибудь выберусь к вам на пару дней. Советская власть повернулась к нам лицом.
– Дай-то Бог, сыночек! Путь у вас все будет хорошо!
ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ЗАПАДНЯ
ГЛАВА 1
Поезд отъехал от Ромен и на станции Ромодан надолго застрял. На перроне группами стояли красноармейцы в длинных серых шинелях с красными застежками поперёк груди и головных уборах, напоминавших шлемы древних русских богатырей, – новая форма Красной армии. Немногочисленные пассажиры, вышедшие из вагонов купить у крестьян горячую картошку и хлеб, с любопытством посматривали на них, обходя на всякий случай стороной.
– Пойду, узнаю, чем эти вояки дышат? – сказал Николай жене, накинул на плечи пальто и засунул в карман новую пачку сигарет.
– Будь осторожен. Мне это напоминает жандармов, ловивших на станциях свои жертвы при царе.
– Какие сейчас могут быть жертвы, уж не мы ли? Нам объявлена амнистия. Слишком почетно, чтобы нас с тобой ловил целый взвод или полк…
Лиза видела в окно, как он шел по перрону, закуривая на ходу сигарету. Около первой небольшой группы красноармейцев остановился и попытался с ними заговорить. Бойцы – совсем юные, мальчишки по 18 – 20 лет, смотрели на него исподлобья. Когда он вытащил из кармана пачку сигарет, только двое или трое протянули к ней свои руки, остальные продолжали стоять с теми же хмурыми лицами.
Ее наблюдения прервал чей-то голос: «Ваши документы!» От неожиданности Лиза вздрогнула и, обернувшись, увидела около себя невысокого роста человека в черной кожаной куртке. В дверях застыли вооруженные красноармейцы, с интересом рассматривая ее и детей, как будто они были диковинные звери.
– Сейчас, – сказала Лиза, открывая сумочку и протягивая ему свой паспорт.
– Вы едете одна?
– С детьми.
– А где ваш муж?
Лиза растерялась, не зная, что сказать, и повернулась к окну. Красноармейцы уже не стояли группами, а вытянулись цепочкой вдоль поезда. Перрон в один миг опустел. Пришел Николай. Молча посмотрел на незваных гостей и сел рядом с женой.
– Весь поезд оцеплен, – шепнул он Лизе. – У меня спросили документы и велели вернуться в вагон. Похоже, нас арестовали.
– А дети? – невольно вскрикнула Лиза таким голосом, что обе девочки заплакали.
– Замолчите, – прикрикнул на них чекист.
Николай посадил детей на колени. Маленькая Оля спрятала лицо под его пиджак, Вера уткнулась в отцовскую шею. Николай их успокаивал: «Не бойтесь, девочки. Сейчас эти дяди посмотрят наши документы и уйдут».
Один из красноармейцев крикнул в глубь коридора:
– Здесь двое маленьких детей.
Оттуда ответил голос, показавшийся Лизе знакомым: «Отведите их в первый вагон». В купе вошел человек, тоже одетый в кожаную куртку.
– Здесь дети? Они пойдут со мной.
– Никуда они не пойдут, – возмутился Николай. – Вы не имеете права.
– Вас никто не спрашивает. За сопротивление властям есть приказ расстреливать на месте.
– Стреляйте, – Лиза повернулась к нему лицом, покрывшимся от гнева красными пятнами; в эту минуту она готова была на любой поступок, так возмутило ее предательство большевиков и заявление этого типа. – Ну?
– Гражданочка, что вы тут спектакль разыгрываете? – чекист силой посадил ее на лавку.
– За что вы нас арестовали, – продолжал возмущаться Николай, – объясните, хотя бы причину?
– За связь с Махно и «Набатом».
– Моя жена не имеет ни к ним, ни к чему-либо другому никакого отношения. Отпустите ее и детей. И потом у Махно подписано политическое соглашение с большевиками, вы его нарушаете.
– Соглашение уже разорвано. Есть приказ об аресте махновцев и анархистов. Ваша супруга тоже анархистка. Вы оба арестованы.
Он попытался взять Веру за руку. Девочка завизжала и, соскочив с коленей отца, вцепилась этому страшному человеку зубами в ладонь.
Чекист взял ее под мышки и, выхватив у Николая вторую девочку, понес их к выходу. Скоро он появился на перроне. Дети вырывались у него из рук и дико кричали. Красноармейцы, кто улыбаясь, кто негодуя, смотрели на эту сцену.
Рядом со станцией около коновязи стояли лошади бойцов из 3-го эскадрона Первой конной армии Буденного, осуществлявшей арест махновцев. За животными присматривал высокий ладный парень Илья Даниленко. Подняв правую ногу своего любимца Мальчика, он озабоченно осматривал сбитую подкову. Тот тянулся губами к его карману, где для него всегда лежали сухари или сахар. Опустив ногу коня, Илья вытащил сухари и положил к себе на ладонь. Мальчик слизнул лакомство и потребовал добавки. Неожиданно он вскинул голову и повернул ее в сторону перрона. Илья тоже прислушался: оттуда доносился душераздирающий детский крик. Что-то толкнуло его в сердце. Подбежав к двум товарищам, стоявшим у здания станции, он спросил с тревогой.
– Что там происходит?
– Детей у анархистов отобрали …
– А поезд откуда?
– Кажись, из Ромен.
Приказав товарищам присмотреть за лошадьми, он ринулся на перрон. Здоровый, широкоплечий чекист тащил под мышками двух отчаянно кричавших детей. Илья был один раз в Ромнах, когда Николай привез туда семью, и узнал Веру (Оля тогда еще не родилась). Девочка тоже узнала его.
– Дядя Илья, дядя Илья,– радостно закричала она, – спасите нас. Они арестовали маму и папу.
Уже целый месяц Илья и его товарищи ловили махновцев – бандитов и предателей, как внушали им их командиры и комиссары, но он никогда не связывал этих людей со своим братом. Не раздумывая, Илья снял с плеча винтовку и наставил ее на чекиста.
– Поставь детей на землю. Это – мои племянницы, куда ты их тащишь?
– Ну, ты, потише, – грозно произнес чекист, не думая выпускать детей из своих цепких рук. – Арестовали анархистов, а дети едут с ними.
– Дети ни в чем не виноваты. Я их отвезу обратно в Ромны.
На перроне появился Арон Ефимович Могилевский, руководивший арестом анархистов в этом поезде.
– Что за шум? – спросил он у чекиста. Тот поставил детей на землю и, указывая на Илью, доложил о нападении на него бойца.
– Арестовать и изъять у него оружие, – приказал Могилевский сопровождавшим его красноармейцам.
– Только попробуйте, – Илья стал водить винтовкой от Могилевского к красноармейцам и обратно.
С другой стороны перрона бежал командир эскадрона Нетребко и, не разобравшись в чем дело, с ходу набросился на Илью:
– Ты, что тут, Даниленко, себе позволяешь? Что за дети?
Илья стал ему объяснять. Воспользовавшись паузой, Могилевский кивнул головой своему подчиненному, и тот скрылся с детьми в вагоне.
Пытаясь спасти своего одного из лучших бойцов, эскадронный заверил Могилевского, что они сами непременно разберутся с ним и накажут его по всей строгости. Что же касается анархистов и махновцев в этом поезде, то все уже арестованы.
– Можно отправлять поезд, – отчеканил он.
– Вы уверены, что все?
– Так точно, сверили по списку. Все документы отдали вашему ординарцу.
– Молодцы, быстро справились с заданием, – похвалил он эскадронного и обратился к Илье (тот поежился под его холодным, стальным взглядом). – Считай, что тебе повезло, по законам военного времени тебя стоило отдать под трибунал. Ведешь себя, как бандит.
С презрением посмотрев на Илью и не обращая больше внимания на вытянувшихся перед ним Нетребко и других бойцов, он скрылся в вагоне
– Вот сволочь, – выругался Илья. – Разрешите, товарищ командир, отлучиться, послать телеграмму матери в Ромны.
– Иди, только быстрей. Нам надо дальше отправляться, да, смотри, в следующий раз веди себя осмотрительней.
Не дослушав его, Илья побежал искать почту. На станции почтовое отделение было закрыто. Он бросился в село. Навстречу ему на телеге ехали двое их бойцов, посланные за водой и фуражом. Они придерживали бочку с водой.
– Ты куда, Даниленко? Сдурел. На тебе лица нет.
– В село, почта нужна.
– Какая там почта? – сказал один. – Весь народ по хатам попрятался. Еле-еле овес нашли и бочку с телегой. Пришлось мужиков хорошенько припугнуть.
– В крайней хате две дивчины дюже красивые, – подмигнул второй. – Так, може, ты туда?
– Вот дурни, у вас в голове одни глупости, – с досадой выкрикнул Илья и побежал дальше.
Почта находилась на центральной площади, но там служащие, узнав, что на станцию прибыли красноармейцы, быстро закрыли дверь на замок и сбежали домой. Сев на крыльцо, Илья обхватил голову руками и стал думать, что делать дальше. Мысли его заработали более четко. Хорошо, что он не отправил матери телеграмму, они бы с Марфой разнервничались, а сделать ничего не смогли.
В ушах его снова возник крик детей. Вот чертовщина. Получалось, что он, боец буденовской армии тоже участвовал в аресте Николая и его жены, позволив отдать их детей чекистам. Вспомнил злой, колючий взгляд человека в кожанке, лицо со шрамом, перекошенное от ярости, когда он приказывал его арестовать, – у такого не дрогнет рука убить и ребенка. Что же делать?
В конце площади показался всадник – его товарищ Вася Савушкин, ведший в поводу Мальчика. Илья пошел им навстречу.
– Мы уезжаем, – сказал Вася. – Нетребко велел тебя разыскать. Они нас будут ждать за станцией.
– Поезд ушел?
– Ушел на Харьков, анархисты ехали туда на съезд. Да не так много – всего 15 человек. В прошлом поезде из Одессы арестовали два вагона…
– У меня и в мыслях не было, что в этом поезде может оказаться мой брат с семьей.
– Он – махновец?!
– Какой там махновец! – махнул рукой Илья. – Анархист, хороший журналист и писатель.
Илья лихорадочно продолжал думать, как известить родных об аресте Николая. Наконец он решил написать телеграмму кому-нибудь из братьев и попросить сельчан отправить ее, когда Почта заработает. В окне соседнего дома шевельнулась занавеска. Он бросился туда, нетерпеливо застучав по стеклу. Створки приоткрылись, из-за занавески показалось испуганное лицо пожилой женщины.
– Дайте мне, пожалуйста, листок бумаги и карандаш, – взмолился он.
У женщины от страха тряслись губы, она не могла пошевелиться, как будто ее парализовало.
– Да не бойтесь вы, – как можно мягче сказал он, пряча в ногах винтовку. – Мне нужно написать текст телеграммы.
Из-за ее плеча выглянула девушка. На лице ее тоже был испуг, граничащий с любопытством. Илья объяснил ей, что ему нужны бумага и карандаш. Такому красивому голубоглазому парню трудно было отказать в просьбе. Улыбнувшись, девушка скрылась в глубине комнаты и вернулась с куском желтой оберточной бумаги и карандашом.
Написав текст телеграммы, он задумался, кому ее послать: в Москву, Володе – далеко; с Сергеем неизвестно что: в Екатеринославе в последнее время были белые и петлюровцы, брат мог уехать из города или скрываться в подполье. С Мишей он давно не переписывался, но тот должен быть в Киеве. Если не сможет приехать сам, то что-нибудь придумает. И он написал адрес Миши.
Денег у него не было. Снял с руки часы, которые ему подарил отец после окончания реального училища, отдал их вместе с бумагой девушке.
– Передайте, пожалуйста, завтра на телеграф, пусть отправят, это очень важно, – сказал он девушке и, доверившись ее открытому, доброму взгляду, добавил. – Моего брата с женой арестовали в поезде, а дети остались в ЧК, их нужно забрать оттуда.
– А часы зачем?
– За телеграмму, у меня денег нет.
– Да что мы, вороги какие, – обиделась девушка. – Отправим, не беспокойтесь, а часы заберите. Нам чужого не надо.
– Спасибо вам, вы меня очень выручили.
– Илья, давай быстрей, – торопил его товарищ, подводя к нему Мальчика.
Илья вскочил в седло, и они рысью пустились по пустынной улице, только две собаки, неожиданно выскочившие из подворотни, с лаем бежали за ними. Пыль стояла столбом, оседая на блестящие спины коней и одежду всадников.
– Смотри, Илья, – сказал Савушкин, – ни души, вот как нас боятся.
– Еще бы не бояться: поезд оцепили, людей арестовали, у мужиков силой забрали телегу и овес. Телегу хоть обратно отвезли?
– Нет. Хозяева сами заберут ее вместе с бочкой.
– А ты говоришь Махно. Чем мы лучше его?
Арон Ефимович Могилевский в этом поезде оказался не случайно. Дзержинский, посланный лично Лениным на борьбу с махновцами, решил привлечь к ней всех руководителей украинской ЧК. С некоторыми из них он встретился лично. Начальник екатеринославской ГубЧК произвел на него приятное впечатление. Арон Ефимович рассказал ему, что до революции сам был анархистом и состоял в боевом отряде известного террориста Борисова. В Америке, куда ему пришлось срочно бежать от преследований полиции, вступил в международную организацию «Индустриальные рабочие мира» (на эту организацию ссылались почти все эмигранты) и под влиянием новых товарищей поменял свои политические взгляды, став большевиком.
В ВЧК сейчас работали многие бывшие анархисты, и у Феликса Эдмундовича не было оснований ему не доверять. Пожимая на прощанье Могилевскому руку и глядя в его спокойное, полное достоинства и самообладания лицо, Дзержинский подумал о том, что человека с таким лицом нельзя заставить делать что-то противное его характеру. Он – боец, боец решительный и преданный делу, каким и должен быть настоящий чекист.
Однако эмигрантское прошлое Могилевского вряд бы понравилось главному чекисту страны, узнай он о нем всю правду. Бежав в 1908 году из Одессы в Нью-Йорк по фальшивому паспорту, Арон и там продолжал мстить богатым русским, которых в Америке было немало, а заодно с ними и наглым, самоуверенным американцам (его не смущало, что среди тех и других было много евреев). Вскоре он переехал в Бостон, и, собрав там небольшую группу из русских и итальянских эмигрантов, по старой памяти устраивал с ними нападения («эксы») на банки, богатые квартиры и дома. С хозяевами расправлялись на месте, будь то мужчины, женщины или дети. Во всех случаях Арон отличался особой жестокостью, поражавшей даже его сообщников. Некоторые их них считали, что у него не все в порядке с головой.
Думал ли он когда-нибудь о Лизе Фальк – этой строптивой, взбалмошной красавице, заставившей его в свое время потерять голову и глубоко страдать? Думал и довольно долго, сатанея от одной мысли, что она отвергла его любовь, и в целом его жизнь не удалась, но годы сделали свое дело: постепенно чувства притупились, и, если он и вспоминал о ней, то уже не испытывал мучительной боли. Жениться не собирался, и с усмешкой смотрел на знакомых мужчин, надевших на себя ярмо супружеской жизни.
В Россию вернулся только в конце 1919 года, но не в Киев, а в столицу нынешней Украины – Харьков. Присмотревшись к советской власти, понял, что самое подходящее для него теперь занятие – работа в ЧК и, сочинив подходящую для эмигранта биографию, устроился в это ведомство и быстро поднялся по служебной лестнице: он хорошо делал то, что умел, – находить и уничтожать врагов.
… В ходе нынешних арестов и допросов Арон встретил многих бывших товарищей, с удивлением увидевших его в новой роли. Импульсивная Ольга Таратута плюнула ему в лицо. Андрей Кротов назвал его Иудой Искариотом, продавшимся большевикам за 30 сребреников. Влюбленная в него когда-то Люся Янкелевич на допросе заплакала и отказалась отвечать на вопросы. Больше всего его развеселил Станислав Никольский (бывший его сокурсник по университету и товарищ Димы Богрова), о существовании которого он давно забыл, – все такой же колоритный, с гривой вьющихся волос и неряшливой бакунинской бородой. Станислав решил, что Арон нарочно работает у большевиков, чтобы разложить их власть изнутри.
– Это ты ловко придумал, – обрадовался он, – готов тебе во всем помогать.
– Читай молитвы и готовься к встрече с Бакуниным, – грубо ответил ему Арон, приказав отвести Никольского в камеру смертников.
Ему было смешно: эти люди продолжают держаться за свои бессмысленные идеи, давно выброшенные им из головы. Ни в революцию, ни в Ленина, ни в советскую власть и тем более в анархическую бессмыслицу он не верил, на всех борцов за новую жизнь смотрел с нескрываемым презрением.
Он весь засиял, когда узнал, что арестованные в поезде маленькие девочки – дети Лизы и Николая Даниленко. О, этого Николая он никогда не забудет: его презрительный, высокомерный взгляд, нравоучительные рассуждения о вреде «террора» на кухне в екатеринославской квартире в 1907 году. Теперь он его вдвойне презирал за то, что тот стал анархистом, видя в этом «заслугу» Лизы. «Подкаблучник!» – ухмыльнулся он и приказал привести к нему Фальк. Ему хотелось узнать, испытает ли он прежнее волнение к этой красавице.
– Арон? – удивилась Лиза. – Ты… с большевиками?
– А ты, как вижу, не изменила нашему святому делу, да еще и мужа в него втянула.
– Верни, пожалуйста, нам детей, – взмолилась она и, невольно подражая Марфе и Елене Ивановне, прибавила, – Богом прошу тебя, верни.
– Ты и в Бога теперь веришь?
– Ты же когда-то был в меня влюблен, сделай это ради меня.
Подойдя к ней вплотную, он провел рукой по ее коротким вьющимся волосам и щеке. Нет, никаких чувств и волнений внутри себя он не ощутил, и ее прекрасные бархатные глаза, от которых он когда-то сходил с ума, оставили его равнодушными.
Лиза с нескрываемым ужасом и отвращением смотрела на его изуродованное шрамом лицо.
– Во имя любви говоришь? – усмехнулся Арон, заметив выражение ее глаз. – Я, Лиза, столько за это время испытал, что во мне не осталось ни любви, ни жалости, ни страха, только одна ненависть.
– К кому?
– Да ко всем: белым, махновцам, красным. Человек – такая мерзость в своей сущности, все идеалы любого из них – личная корысть и выгода…
– Зачем же ты тогда служишь большевикам, займись каким-нибудь другим делом, женись, наконец.
– Жена моя, вот она, всегда со мной, – зло усмехнувшись, показал он на висевшую сбоку кобуру с наганом, – и дело у меня только одно: убивать.
Какой-то нехороший блеск сверкнул в его глазах. Лизе стало страшно за детей и Николая, особенно за Николая. Он смотрел на нее и молчал. В нем происходила какая-то внутренняя борьба. Неожиданно лицо его смягчилось.
– Приедем в Харьков, – сказал он, – отпущу тебя и детей, пристроишь их куда-нибудь и вернешься обратно в тюрьму. Даю тебе на это два дня, больше не могу: меня в любое время могут послать на другое задание или вернуть в Екатеринослав, я там возглавляю ГубЧК.
– Так ты работаешь в Екатеринославе? Городе нашей молодости…
– К чему эти сентиментальности? Детей арестованных мы обычно отправляем в приют, для тебя я делаю исключение, считай, в память о моей безумной любви к тебе, которую ты не захотела оценить и принять…
– Спасибо, Арон, я этого никогда не забуду.
– Скажи, вы знали о том, что Троцкий еще год назад отдал приказ об уничтожении Махно, мобилизовал для этого лучшие части Красной армии?
– Мы с Махно не были связаны…
– Я тебя не допрашиваю, а просто интересуюсь. У нас на твоего мужа достаточно материала о его участии в «Набате», да и мандат у него нашли за подписью Буданова. Махно сам предложил большевикам заключить союз, чтобы устроить себе передышку. Ленин и Троцкий на это пошли только для того, чтобы с его помощью выгнать Врангеля и освободить Крым. Отношение к нему и всем анархистам не могло измениться. Что же вы все так легко поверили Троцкому, ринулись на этот съезд, как мотыльки на огонь?
– Мы с Колей собирались переехать в Харьков, в Ромнах большевики забрали у нас почти весь дом…
– Да не только вы. Таратута, Янкелевич… За несколько дней Троцкий сделал то, что ему не удавалось за год… Ладно, иди…
Услышав от Лизы, с кем она беседовала, Николай вспомнил, что об Ароне и его новой должности в Екатеринославской ГубЧК говорил Дима Ковчан. Они стали обсуждать, кому в Харькове можно поручить детей. Если предположить, что всех их друзей могли арестовать или вскоре арестуют, то отдавать было некому. Везти обратно в Ромны, лишние волнения для мамы. Оставалась Анна, сестра Лизы, жившая с мужем в Курске, двух дней для этого вполне хватит.
Николай настаивал, чтобы обратно она не возвращалась. «И не подумаю, – упрямо твердила Лиза. – Арон тебя уничтожит. Ты бы видел его лицо со шрамом, зверь. И потом он может установить за мной слежку».
Тут Лиза спохватилась, что денег-то у них нет, их вместе с документами и вещами отобрали при обыске. Николай показал ей глазами на свою кепку и охранника:
– Отвлеки его, у меня там кое-что есть.
Лиза попросила охранника принести воды: ей плохо с сердцем. Высунувшись в коридор, красноармеец стал кого-то звать, чтобы принесли воды. Николай зубами рванул подкладку, быстро вытащил деньги и положил ей в карман пальто.
ГЛАВА 2
… Харьковская тюрьма мало чем отличалась от екатеринославской: та же скученность, грязь, смрад, крысы и насекомые. В Лизиной камере политические опять находились вместе с уголовницами, всего человек 50. Анархисток было немного, и все – незнакомые. Они держались особняком, горячо обсуждая предательство большевиков и какой-то приказ Троцкого № 180 об уничтожении махновцев («Долой махновщину!»), как врагов революции и советской власти, и всех, кто с ними связан. Женщины ехали на съезд, трое из них были женами анархистов, работавших у Махно в культпросвете. Лиза плохо их слушала, все ее мысли были о детях.
Прошли вечер, мучительная и бессонная ночь. Наступило утро. Никто, никуда ее не вызывал. Она решила, что Арон ее обманул. Ее охватила нервная дрожь. Воображение рисовало самые ужасные картины, как охранники издеваются над девочками, кричат на них, бьют, те плачут и зовут на помощь маму и папу. Анархистки, да и другие женщины, узнав о ее горе, сочувствовали и успокаивали ее. Принесли обед, к которому она не притронулась. Только в пять вечера появился конвоир и попросил ее на выход.
– Постарайся узнать о судьбе наших мужчин, – напутствовали ее женщины, – может быть, их уже расстреляли…
– Как я узнаю? У меня будет мало времени.
– У конвоиров. Они должны знать.
Внизу, в проходной ее ждал Арон.
– Никто не знает, что я тебя отпускаю, только этот охранник, – указал он на наглого, ухмыляющегося парня. – Он же тебя здесь встретит послезавтра. Постарайся вернуться к ужину. Надеюсь, тебе не придет в голову сбежать: сама понимаешь, что тогда будет. На детей оформлены документы об их освобождении. Сейчас их приведут. Жди, – он отвел ее в соседнюю маленькую комнату и, холодно распрощавшись, ушел.
… Прошел час или больше – ее золотые часики, купленные в Швейцарии, были проданы на роменском базаре, других у нее не было. Она терялась в догадках. В комнату заглянул охранник и, ухмыляясь, сказал, что придется еще подождать. «Какой-то чудной, – подумала Лиза, – а может быть, он в сговоре с Ароном, и они оба издеваются надо мной?» У нее снова началась нервная дрожь. Она совсем забыла о просьбе женщин, узнать о судьбе своих мужей. Наконец детей привели. Оля была так напугана, что не могла говорить. Лиза взяла ее на руки. «Девочка моя, все прошло, я с тобой». Вера жалобно протянула: «Мама, я боюсь».
– Мы сейчас поедем на поезде к тете Анне. Там вас никто не найдет.
– А ты?
– Мне надо сюда вернуться, иначе папе будет плохо.
На улице она попыталась заставить Олю идти самой, та крепко обняла мать за шею и, сколько ее ни уговаривали, не отпускала руки.
– Что с ней, – спросила она Веру, – вас били?
– Ее дядя ударил по голове.
– Охранник?
– Нет, тот, что тащил нас на станции в Ромодане. Ты, мамочка, не знаешь, а нас пытался спасти дядя Илья, он откуда-то к нам прибежал. Его хотели отдать под трибунал.
Лиза даже остановилась от такой новости.
– Ты не путаешь?
– Нет, не путаю, он сам сказал чекисту, тащившему нас, что мы – его племянницы.
– Да, он мог там быть, он же теперь в армии Буденного. Не хватало, чтобы и он из-за нас пострадал…
Выйдя на соседнюю оживленную улицу, она остановила извозчика.
Незнакомый большой город жил обычной будничной жизнью: работали лавки и магазины, спешили куда-то люди; милиционеры в синих шинелях, подпоясанных широкими ремнями, весело махали жезлами, направляя потоки машин в нужном направлении. Никому нет дела до того, что какой-то Махно борется за их свободу, а власть большевиков, сидящая в этом городе, объявила ему и его армии смертельную войну.
Мысли метались в ее голове, как пчелы в растревоженном улье, она никак не могла привести их в порядок. Одна из них выплыла и заставила ее оглянуться назад: нет ли за ними слежки по поручению Арона, но ничего подозрительного не увидела, кроме тащившегося за ними в гору трамвая, и то он вскоре повернул в другую сторону.
Ближайший поезд на Москву через Курск отправлялся через полчаса, а очередь в кассу, как назло, растянулась на весь зал. Набравшись духу, Лиза попросила пропустить ее без очереди. Люди молчали. Никто не решился возразить или обругать красивую, прилично одетую женщину, державшую на руках перепуганного ребенка.
С таким же сочувствием встретила ее около вагона женщина-проводник (теперь, оказывается, на эту работу брали и женщин). Помогла Лизе поднять наверх детей и проводила их на свои места.
– Какие они у вас красотки, – сказала она, любуясь девочками, и вздохнула, – а у меня нет детей, мужа убили еще в японскую, так с тех пор и кукую одна.
– Время сейчас тяжелое.
– Я и то думаю, куда вы едете одна, без мужа. Видно, что из интеллигентов, а эти сейчас, наоборот, бегут из России в обратную сторону. Я сюда повешу занавеску, чтобы вас никто не тревожил. В Курске-то будет, кому вас встретить, поезд придет туда в два часа ночи?
Только тут Лиза спохватилась, что не догадалась дать Анне телеграмму. Она покачала головой.
– Ничего, я вам подсоблю, провожу на вокзал, а утром сядете на трамвай или найдете извозчика. Город хороший, я там жила до замужества, мужа там встретила.
Женщина приходила еще два раза, повесила около них штопанную перештопанную ситцевую занавеску, принесла бутылку молока с ржаным хлебом.
– Поешьте, горемычные, больше у меня ничего нет.
– Спасибо вам, – сказала Лиза, с благодарностью погладив ей руку. – Вы не представляете, как мне сейчас дорого ваше участие. Как будто у печки погрелась.
– Да вижу, вижу, что у вас беда. Дите-то вон, как напугано.
Женщина ушла, что-то бормоча себе под нос и шаркая тяжелыми мужскими ботинками. Оля выпила стакан молока и тут же заснула, крепко вцепившись в Лизину руку. Вера с удовольствием съела хлеб с оставшимся молоком и легла рядом с сестрой, держа мать за другую руку. Стоило ей пошевелиться, как обе открывали глаза и с испугом смотрели на нее. Лиза уронила голову на грудь и беззвучно заплакала: от безысходности, от страха за девочек и Николая, ненависти к большевикам.
В Курске бушевала метель, ветер, завывая и рыча, как дикий зверь, крутил под ногами снег, сбивал с ног. Проводница отвела их в здание вокзала и, потеснив в сторону двух мужиков с мешками (она была в железнодорожной форме, а любая форма действует на людей безотказно), усадила на лавку.
– Ну, бывайте, – сказала она, гладя девочек по голове, – уж и не знаю, что вам пожелать?
– Я сегодня должна вернуться обратно в Харьков, – открылась ей Лиза. – Мой муж в тюрьме.
– Наш поезд здесь будет через два дня. Нельзя ли повременить до этого?
– Это может навредить мужу.
– Э-эх, беда, так и ходит кругом, – горестно вздохнула женщина, сняла с себя теплый платок и прикрыла им засыпавшую Олю. – Спи, маленькая, так тебе теплей будет, – ласково сказала она и ушла, шаркая своими тяжелыми, наверное, мужниными ботинками.
– Хорошая тетя, – похвалила ее Вера. – Мамочка, я хочу есть. У тебя что-нибудь осталось?
– Остался хлеб. Возьми у меня в кармане и постарайся заснуть. Так время быстрей пройдет, а завтра мы будем у тети Ани.
Ночь была ужасная. Все время кто-то кричал, свистели милиционеры, мимо ходили подозрительные личности, высматривая, что плохо лежит. Лиза отвыкла от шума и людей. В последнее время из-за постояльцев она редко выходила из дома и могла бы сейчас растеряться, но мысли о муже и этих двух беззащитных крошках, которых она держала онемевшими руками на коленях, заставляли ее крепиться. Вторая бессонная ночь давала о себе знать: раскалывалась голова, от долгого сидения в одной позе нестерпимо болели спина и поясница. «Вот будет дело, если я завтра не смогу разогнуться, – думала она и строго приказывала себе голосом проводницы, – держись, милая, держись!»
К утру метель разошлась не на шутку. Ветер раскачивал и ломал деревья, с грохотом падали вниз куски водосточных труб и штукатурка с балконов. Лиза взяла около вокзала сани и, боясь, что девочки замерзнут, всю дорогу подгоняла извозчика: «Быстрей, пожалуйста, быстрей». «Куда ж, дамочка, быстрей, – возмущался тот, – лошадь и так из сил выбилась, круговерть-то какая. Потерпите немного, осталось недалече».
И вот уже сани останавливаются около дома сестры, они поднимаются на четвертый этаж, и Анна, всплеснув от радости руками, подхватывает детей, раздевает их и помогает снять пальто Лизе, окончательно выбившейся из сил. Мстислава не было, он находился в Москве по делам службы.
Анна поняла, что у Лизы что-то случилось, но не стала ее расспрашивать, пока они с девочками не привели себя в порядок и не напились чаю.
– Теперь рассказывай, – сказала она, усаживаясь на диван рядом с сестрой и подкладывая ей под ноющую поясницу вышитую подушечку. Девочки сидели у их ног на ковре, рассматривая книги с картинками.
Лиза коротко рассказала ей об аресте в поезде.
– Можно девочки пока побудут у вас? Неизвестно, когда нас с Колей освободят и освободят ли вообще.
– Ну, что за вопрос? Конечно, можно. Верочка стала такая большая, умная. Ей пора учиться.
– Мы с папой занимаемся арифметикой и французским языком, – откликнулась та. – Я знаю несколько стихотворений на французском языке.
– А английский, ты когда-то хорошо на нем говорила?
– Папа сказал, что сначала надо выучить один язык, потом – другой.
– К тому времени ты забудешь все, что знала.
– Коля хочет, чтобы Оля подросла, – заступилась за мужа Лиза, – вдвоем они будут усваивать лучше.
– Сестренка, как я рада, что ты мне их привезла! Мне так хочется иметь вот такую же Верочку или Олечку. Душеньки мои, лапочки, ягодки, – обнимала и целовала Анна племянниц, – вам у нас будет хорошо. Слава тоже любит детей.
– Что же вам мешает их завести?
– Пока не получается. Я ходила к врачу, у меня все в порядке, – сказала она шепотом, – Слава не хочет ни к кому обращаться, а годы идут. Мне скоро 30.
– Мама тоже поздно родила, – успокоила ее Лиза. – Аня, а как ты устроишься с работой?
– Об этом не беспокойся, попрошу помочь Славину маму, Галину Викторовну. Папа Славы умер, она теперь тоже в Курске живет. Милая женщина, ей это доставит удовольствие. Или уйду из школы. Мы со Славой решим.
– Оля очень напугана. Держи ее при мне на руках, пусть к тебе привыкнет.
Весь день Анна возилась с Олей, сажала ее к себе на колени, читала книги, рассказывала сказки. Та внимательно ее слушала, но стоило Лизе выйти из комнаты на кухню или в ванную, как девочка со слезами бежала за ней. Лиза была в отчаянье. Пришлось ей остаться до утра, чтобы уйти, когда дети будут спать.
– Милая моя сестренка, – успокаивала ее на прощанье Аня. – Ни о чем не беспокойся. Маленькие дети быстро привыкают к новым людям и новым местам.
Как назло все поезда в сторону Харькова были отменены будто бы из-за снегопада (люди же шепотом рассказывали, что это отряд Махно в Дергачах обстрелял бронепоезд красных и повредил рельсы), и первый поезд отправится не раньше ночи.
Лиза опаздывала на целые сутки, с ужасом думая о том, что Могилевский там рвет и мечет. В приемной будет дежурить уже другой человек – не тот, с которым Арон договорился. Как она объяснит ему свое появление?
К ее радости на звонок в тюремную дверь вышел человек Арона, обрадовавшийся ей не меньше, чем она ему.
– Из-за вас, – проворчал он недовольно, – мне пришлось дежурить подряд двое суток.
– А где Арон Ефимович?
– Уехал на новое задание. Следователи спрашивали о вас. Арон Ефимович сказали, что отправили вас в лазарет. И вы так объясняйте. Это – люди Дзержинского, с ними шутки плохи.
Лиза вынула из кармана оставшиеся у нее деньги, сунула ему в руку.
– Я вас очень прошу, сообщите Даниленко в мужское отделение, что я вернулась, у меня все в порядке.
Она приветливо улыбнулась ему. В ту же минуту его лицо преобразилось, глаза заблестели каким-то нехорошим светом.
– Нет, милая, одними деньгами не отделаешься, – задыхаясь, пробормотал он и, оглянувшись по сторонам, втолкнул ее в темную комнату, где она два дня назад ждала детей. Цепкие руки обхватили ее спину, повалили на лавку. Одной рукой он стягивал брюки, другой задирал ей пальто и платье.
Лиза закричала.
– Чего орешь, дура, хочешь, чтоб другие набежали? Тут много охотчиков до этого дела.
– Я пожалуюсь Могилевскому. Он вас всех раздавит, как тараканов.
Неожиданно эта угроза подействовала на насильника. Державшие ее руки ослабели.
– Да, ладно, уж, и пошутить нельзя. Ничего не было.
Охранник натянул брюки и быстро выскользнул из комнаты.
После всего, что Лизе пришлось пережить за последнее время, этот инцидент окончательно подкосил ее, она думала, что сейчас упадет и не встанет. Появился конвоир, чтобы отвести ее в камеру. Увидев растерзанный вид Лизы и красное лицо охранника, он решил, что тот не упустил своего счастья, и ухмыльнулся.
– Э-э…ты, вы, – протянул охранник, обращаясь к Лизе и смотря мимо нее, – не забыли, что я вам говорил про лазарет. И ты так говори, если кто спросит про нее, – велел он конвоиру, – мол, привел из лазарета, иначе будешь иметь дело с Могилевским.
За время ее отсутствия в камере появилось много новых лиц. Невысокая хрупкая женщина с приветливым лицом провела ее на свободные нары. Минуту назад Лиза готова была разрыдаться от отчаянья и одиночества, но теперь рядом с этой женщиной она почувствовала себя в безопасности, страх и тревога исчезли.
– Вы Лиза? – спросила та, улыбаясь.
– Да.
– А я – Фанни, жена Арона Барона. Ваш муж, наверное, рассказывал о нас. От него уже приходила сюда записка. Как ваши девочки?
– Они очень напуганы, особенно маленькая, никак не хотела меня отпускать, поэтому я опоздала. Меня еще охранник в проходной чуть не изнасиловал. Такая мерзость, – сказала она с отвращением, – набросился, как на уличную девку. Не лучше тех, что служили при царе.
– Милая моя… Сколько вам пришлось перенести, — Фанни успокаивала ее и гладила по голове, как маленького ребенка. – Прошел слух, что нас всех переводят в Москву, в Бутырку.
– Это хорошо или плохо?
– Трудно сказать. Всем заправляют Троцкий и Дзержинский.
– Могилевский, который нас с Колей арестовал в Ромодане, называл фамилии Таратуты, Янкелевич. Они тоже тут…
– Я знаю, нам сообщили из соседних камер. Ты тут посиди, – без лишних слов Фанни перешла на «ты», – я отстучу соседям насчет тебя, они передадут Николаю.
Когда Фанни вернулась назад, Лиза крепко спала, свернувшись калачиком. Полюбовавшись ее красивым лицом, она просунула ей под голову подушку, накрыла своей теплой кофтой. Вот и познакомилась она с женой Николая, о которой тот с такой любовью рассказывал им в Харькове.
ГЛАВА 3
В Бутырской тюрьме встретились многие старые друзья. После долгого расставания Николай, наконец, увидел Волина, Мрачного-Клеванского, Гребнева, Гаранькина… От них он узнал о судьбе Маруси Нефедовой и ее группы. В декабре 19-го года ее и Бжокача деникинцы арестовали в Симферополе и казнили на центральной площади при стечении большого количества людей. Еще несколько человек из этой группы осенью этого же года бросили бомбу в здание Московского горкома партии в Леонтьевском переулке. Организаторов теракта Казимира Ковалевича и Пётра Соболева убили при задержании. Другие члены группы сами себя взорвали на даче подмосковного поселка Красково (там была их база), когда их окружили чекисты.
В этом деле каким-то образом оказался замешан и Барон. Его задержали в поезде с письмом, в котором речь шла об этом акте – до этого письма ЧК не сомневалось, что взрыв организовали эсеры. Участие Арона в самом теракте не было доказано, его выпустили из тюрьмы, он вернулся на Украину и был арестован вместе со всеми «набатовцами» в Харькове. Сейчас он, Ольга Таратута и еще несколько близких товарищей сидели в предварительном отделении ВЧК на Лубянке.
Николай спросил о Лене Туркине. Ему сказали, что он находится в Орловской тюрьме.
Лизу и двух жен анархистов, чье участие в махновском движении не было доказано, вскоре отпустили. Она привезла детей в Москву и поселилась с ними в Большом Чернышевском переулке в комнатах Николая, куда его когда-то определил Туркин. Он до сих пор там числился в домовой книге.
Свиданий с родными не давали. Володя получил разрешение увидеть брата через своих пациентов из партийной верхушки. Пришел мрачней тучи.
– Что случилось, – по его лицу Николай догадался, что произошло что-то страшное, – Лиза, мама, дети?
Володя покачал головой и тяжело сглотнул слюну, как будто у него что-то застряло в горле, – это был комок слез.
– Большевики расстреляли Мишу… еще в марте…
– Не может быть… Откуда ты узнал?
– Недавно пришли письма, старые, от Маши и Татьяны, Лениной сестры. Мишу и обоих Рекашевых забрали в один день. Мишу расстреляли по дороге в тюрьму, якобы, во время побега. Тело они сами нашли через несколько дней и похоронили. О Рекашевых до сих пор ничего неизвестно, у ЧК нет сведений. Я и здесь запрашивал.
– Как это нет? У них должны быть списки…
– Тоже скорей всего расстреляли и где-нибудь закопали, они оба были черносотенцами и членами Рады. Маша беременна. Я хотел ее и Катюшку перевезти в Москву, послал телеграмму, но их слуга Харитон ответил, что они уехали в Крым с Лениной родней, когда в Киеве стояли поляки. С ними и другая сестра, Ирина, из Мариуполя с мужем и детьми. Где они теперь, пойди, сыщи.
– Мама знает?
Володя покачал головой.
– О Ване скрыли, теперь и вовсе не знаешь, как быть.
– Будем и дальше молчать, пока сама не догадается…
– Про вас с Лизой ей известно. Кто-то положил им на крыльцо газету с заметкой об аресте анархистов в Ромодане. Мама, конечно, в ужасе, прислала мне телеграмму. Я ее успокоил, что Лиза на свободе и привезла детей в Москву. Лиза собирается пристроить девочек в детский сад, пойти на работу.
– Как она со всем справится?
– Не волнуйся, мы с Леной поможем. Они с ней вроде неплохо ладят. И Максимовы ее хорошо приняли. Ольга не работает, предлагает оставлять девочек с ней. Обе в хорошем состоянии. Я привез им игрушки.
– Спасибо тебе за все, Володька. Что бы мы без тебя делали? А как твои дела с Лялей, кого она родила?
– Мальчика, Андрея. Отличный, скажу тебе парень. Лиза, наверное, захочет с ней встретиться. Ляля просила даже ей не говорить о моем отцовстве, боится меня подставить. Так что ты по-прежнему молчи…
– Как скажете.
– Суд-то когда будет? Я разговаривал со следователем, разводит руками.
– Нам и подавно не говорят. Тянут и тянут. Хотят Махно поймать, а он и не думает сдаваться.
– Ты опять кашляешь. У тебя легкие никуда не годятся. Могу поговорить о тебе с высшим начальством, у меня многие в пациентах ходят…
– Только не это. Мне ты не поможешь, а себе навредишь и семью подставишь. Вспомни Жмудского, как он тебя разными намеками шантажировал.
Прозвенел звонок об окончании свидания. Володя встал.
– Все-таки, я похлопочу о лазарете…
– Не надо. Здесь все мои товарищи, время веселей идет.
Восьмого февраля в подмосковном Дмитрове умер Кропоткин. Товарищи, которые встречались с ним в последнее время, рассказывали, что он очень страдал из-за того, что происходит в стране, критиковал большевиков, их экономическую политику и якобинскую тиранию. Об этой жестокой диктатуре одной партии, своего рода самодержавии, которое утвердилось в России, Петр Алексеевич много лет назад предупреждал в «Речах бунтовщика».
Жена Петра Алексеевича и дочь отказались от государственных денег и участия в похоронах каких-либо представителей правительства и ВЦИК, согласились только выставить его тело в Колонном зале Дома труда (в бывшем Дворянском собрании на Большой Дмитровке). Три дня туда непрерывным потоком шли люди, чтобы попрощаться с великим мыслителем, революционером, ученым и исследователем, предвосхитившим многие открытия в будущем.
Исполняя последнюю волю Петра Алексеевича, Ленин и Дзержинский обещали его семье отпустить на похороны из тюрем несколько анархистов. Закончилась гражданская панихида, настал момент выноса гроба из зала, а обещанные узники все не появлялись. В знак протеста анархисты и семья Кропоткина решили ждать, когда большевики выполнят свое слово. Только после этого бойкота по указанию председателя Моссовета Каменева семь человек во главе с Ароном Бароном и Ольгой Таратутой доставили в Дом труда.
Газеты писали, что их выпустили под честное слово, на самом деле их предупредили, что в случае невозвращения будут арестованы другие люди. Да они и сами это хорошо понимали.
Более двух часов траурная процессия двигалась к Новодевичьему монастырю, где покоились предки старого князя. Вопреки пожеланию семьи, в ней участвовали представители правящей партии. От нее же было много венков и выступлений на митинге. Государство, с действиями которого этот человек не соглашался, и здесь проявило свое самоуправство.
На кладбище около гроба великого мыслителя выступило много иностранных товарищей и анархистов. Самое большое впечатление на всех произвела речь Арона Барона. Понимая, что больше не будет такой представительной трибуны, он в пух и прах раскритиковал ненавистную ему власть, предсказав ей неминуемую гибель.
Арон знал, о чем говорил. К этому времени Троцкому удалось подавить «махновщину» (но не самого Махно, он еще колесил по Украине, пытаясь снова поднять народ), однако оставался другой крупный очаг – восстание Антонова в Тамбовской губернии. Если Махно в основном сражался с врагами революции (это потом большевики вынудили его воевать на два фронта), то тамбовские крестьяне поднялись против самой советской власти, силой отбиравшей у них самое дорогое, что у них было, – хлеб. К февралю 1921 года их было более 50 тыс. человек. Объединенные в две армии, они взяли под контроль почти всю губернию, парализовали все железнодорожное движение и успешно отбивали попытки советских войск вторгнуться на их территорию.
Крупные волнения начались и в самом сердце революции, красном Кронштадте. В нем и Петрограде давно зрело недовольство матросов и рабочих большевиками, их крестьянской политикой, продовольственными и заградительными отрядами, чрезвычайками, приведшими страну к разрухе, голоду, эпидемиям, высокой смертности. Видя, что большевики с их Советами, имеющими неограниченную власть, предали интересы революции, кронштадтцы организовали в своем городе Вольные советы, аналогичные тем, что создавали на Украине Махно и «набатовцы». Их лозунг был: «За Советы без коммунистов!» Они надеялись на всеобщее восстание рабочих и красноармейцев Петрограда и Москвы, которое положит начало «третьей Революции».
И что стало совсем неожиданным для анархистов, особенно для Даниленко и Волина, – появление в партии «рабочей оппозиции» во главе со Шляпниковым, тем самым Шляпниковым, который, будучи два года назад наркомом труда, доказывал рабочим обувной фабрики «Витязь» необходимость проводимой партией политики планирования в промышленности. Теперь он и его соратники пришли к выводу, что заниматься управлением народным хозяйством должна не партия, а профсоюзы. Гигантская партийно-бюрократическая машина постепенно превращалась в тоталитарную систему правления.
После похорон Кропоткина началось очередное наступление на анархистов, как будто смерть их великого учителя окончательно развязала властям руки. Разговор у нее был короткий: собрались где-то вместе больше 3 – 4 анархистов, уже – заговор против советской власти, и их немедленно арестовывают. Прошло собрание или конференция – на следующий день все участники сидят в тюрьме. Так были арестованы почти все делегаты, собиравшиеся приехать на съезд анархо-синдикалистов 25 апреля в Москве.
В тюрьме оказались и члены Исполнительного бюро анархо-синдикалистов Григорий Максимов и Ефим Ярчук. Ефим был также одним из организаторов восстания в Кронштадте, которое моряки и рабочие все-таки подняли против большевиков. Невероятными усилиями властям удалось его подавить. С той и другой стороны погибло множество людей (мятежников – свыше одной тысячи).
Ярчук по памяти цитировал товарищам программные документы восставших. Слушая их, «набатовцы» видели перед собой тексты махновских листовок, настолько совпадали цели украинских крестьян и балтийских моряков. Кронштадтские матросы, «краса и гордость революции», требовали «обновить революцию»: избирать Советы тайным голосованием, обеспечить свободу слова и печати для всех революционных партий и группировок, отменить монополию на официальную большевистскую пропаганду, сделать профсоюзы независимыми от государства.
Все, что предсказывали анархисты и Кропоткин о власти, державшейся на кровавой диктатуре, сбывалось. Большевики терпели не только экономический, но и политический крах.
ГЛАВА 4
В середине марта Николая неожиданно вызвали к коменданту тюрьмы Дукису. Тот был с ним необыкновенно любезен, предложил сесть на стул; сам встал около стола и, долго откашливаясь и теребя ремень, произнес.
– Николай Ильич, утром здесь был ваш брат, профессор Даниленко, у вас заболела младшая дочь, она… в критическом состоянии в Филатовской больнице. Вас выпускают на неделю по поручительству Моисея Абрамовича Аристова. Распишитесь, что вы поставлены в известность и не будете в эти дни вести агитационной работы. Можете ознакомиться с поручительством.
У Николая потемнело в глазах. Трясущимися руками он взял ручку, расписался там, где стояла галочка, и поднес к глазам письмо Моисея. «В Президиум ВЧК, – с трудом прочитал он первую строчку, так как все расплывалось от слез. – Прошу выпустить под мое поручительство анархиста Николая Даниленко. Ручаюсь, что он не будет принимать участия в антисоветской работе. По первому требованию он явится в ВЧК. Замнаркомтруда М. Аристов». Ниже стояла виза Уншлихта: «Согласен» с указанием коменданту тюрьмы: «По распоряжению Управделами т. Ягоды предлагаю вам немедленно предъявителю сего документа Иванову Т.Н. выдать анархиста Даниленко Николая. При каком-либо сомнении прошу позвонить в ВЧК тт. Ягоде или Мещерякову. Ответственный дежурный Президиума ВЧК Битенек».
– Внизу вам выдадут одежду. Крепитесь, – выразил свое сочувствие комендант, по мнению арестованных, не способный к состраданию. Видимо, на него произвело впечатление поручительство за Даниленко высокого начальства.
В полной растерянности он вышел на улицу. В кармане пальто лежали мелкие деньги, оставшиеся со дня их ареста в Ромодане. Он нашел телефон-автомат, позвонил домой. Подошла Татьяна, печальным голосом сказала ему, что у Оли тяжелая форма скарлатины, три дня назад ее увезли в Филатовскую больницу. Лиза там ночует.
– А Вера?
– Ее Владимир Ильич забрал к себе. У нас тут во всей квартире провели дезинфекцию.
Филатовская больница находилась недалеко от Бутырок, можно было доехать на трамвае, однако сначала он решил привести себя в порядок. Как во сне, добрался до своего дома. На звонок вышел маленький братец. Тут же из комнаты выскочила Татьяна, бросилась к нему на грудь со слезами.
– Бедная девочка, и Лиза не в себе. Хорошо, что тебя выпустили. Давай я тебя покормлю
– Спасибо. Я зашел привести себя в порядок.
Найдя в ящике стола новое лезвие, он прошел в ванную и, глядя в зеркало на свое лицо, покрытое жесткой щетиной, заплакал. Он готов был к любому удару, мог вынести, что угодно: тиф, бронхиты, побои деникинцев, голодовку, но чтобы такое случилось с его обожаемой девочкой, это было выше его сил. Три дня она лежит в больнице, мучается, а ему ничто не подсказало его отцовское сердце. «Не уберегли, не уберегли, – твердил он, как в бреду, видя в случившемся свою вину. – Если бы я был здесь, а не в тюрьме, этого не случилось».
В дверь постучали.
– Коля, – крикнула Татьяна, – Владимир Ильич из больницы звонит, просит поторопиться.
– Скажи ему, что сейчас приеду.
– Он просил дать тебе денег.
– Положи, пожалуйста, в пальто.
… Словно в тумане брел он по Большой Никитской улице, натыкаясь на прохожих; кто-то, принимая его за пьяного, ругался, иные, видя, что человек не в себе, сочувственно смотрели вслед. Голова его раскалывалась от боли, в висках назойливо стучала одна и та же мысль: «Не уберегли», «Не уберегли», «Не у-бер-е-гл-и».
На Садовом кольце мчались автомобили. Стараясь за ними поспеть с криком на старый манер: «Эй, посторонись, любезные!», летели извозчики-лихачи, нахлестывая кнутами вспотевших лошадей. Растерявшись, он не знал, как перейти этот огромный шумный поток. Увидев его нерешительность, какая-то девушка вежливо предложила его перевести. Послушно, как ребенок, он шел за ней, смотря впереди себя невидящими глазами.
– Дальше вы знаете, куда идти?
Он махнул рукой в направлении больницы.
– В больницу.
Девушка сочувственно посмотрела на него и пошла в другую сторону, через минуту уже, наверное, позабыв о нем.
Жизнь кругом была новая, другая: все куда-то неслось, спешило, назойливо-шумно кричало. И никому не было дела до того, что в двух шагах от этого бесконечного потока умирала его девочка.
У ворот больницы стоял Володя. По его лицу Николай понял, что дела совсем плохие. У него задергалась правая щека, скривились губы.
– Коля, возьми себя в руки, – сказал брат. – Лиза очень страдает. В таком виде тебе нельзя появляться в палате.
Николай взял его руку и с благодарностью прижал к своему лицу.
В палате стоял полумрак, под высоким потолком тускло горела лампа в стеклянном матовом колпаке, потемневшем от грязи. Лиза сидела на стуле около детской кровати, держа Олю за руку. На скрип двери подняла голову, Николая поразило ее черное, осунувшееся лицо. Жена посмотрела сквозь него и отвернулась.
Девочка находилась без сознания, щеки ее пылали, по лицу и телу то и дело пробегали судороги.
Володя поднял Лизу со стула и увел в коридор. Николай сел на ее место, взял в руки худую, прозрачную ручку дочери, наклонился к ее лицу: «Олечка, это я, твой папа, не уходи от нас, пожалуйста, не уходи». Девочка взмахнула ресницами, посмотрела на него невидящим взглядом и закрыла глаза. Слезы градом катились по его лицу, капали на простынь и ее ручку.
Она стала часто-часто дышать. Пришел Володя, тихо произнес: «Началась агония».
– Позвать Лизу? – спросил Николай.
– Подожди.
– Пойду все-таки позову, – сказал Николай и пошел за Лизой. Она молча, без единого движения на лице, вернулась в палату, села на стул и смотрела на умирающую дочь. Николай стоял позади нее и плакал. Наконец Володя тихо сказал, но так, что они оба услышали: «Все кончено. Ее больше нет».
Лиза как бы опомнилась, упала на тельце дочери, стала целовать ее холодные, бледные губы, сморщенное от боли лицо. Не выдержав этой сцены, Николай вышел в коридор и попросил медсестру сделать жене укол с морфием.
Володя отвез их домой.
– Может, побыть пока у вас? – спросил он брата, когда они вошли в комнату.
– Не надо, как-нибудь справимся.
Лиза, не раздеваясь, легла на кровать, закрыла глаза и неподвижно застыла в одной позе. Решив, что она заснула, он нашел в буфете непочатую бутылку водки, заперся в своем кабинете и целиком ее выпил, тихо воя, как раненый зверь, от злобы и бессилия. В захмелевшей голове его, как в кинематографе, мелькали одна за другой картины их ареста в Ромодане, отчаянный крик девочек, когда их чекист тащил по перрону, ухмыляющиеся лица красноармейцев в буденовках (о попытке Ильи забрать детей он до сих пор не знал).
Лиза не спала и слышала, что Николай прошел в кабинет и заперся. Вдруг ее как будто кто-то толкнул, она подняла голову, прислушалась: в кабинете было тихо. Испугавшись, что он с собой что-нибудь сделал, она бросилась к двери, стала ее дергать и кричать: «Коля, открой, пожалуйста, дверь, я тебя прошу, открой».
На крик прибежали соседи. Лиза послала Игоря за дворником-татарином, жившим в подвале. Было уже часа три ночи, и тот недовольный пришел с топором. Дверь открыли. Вдоволь наплакавшись и окончательно опьянев, Николай спал глубоким сном, положив голову на стол. Мужчины перенесли его в комнату на кровать.
Дворник и сестры ушли, и теперь уже Лиза, очнувшись от своего оцепенения и, наконец, полностью осознав, что произошло, легла рядом с мужем, уткнулась ему в грудь и зарыдала, чувствуя, как непослушными руками он во сне обнимает ее и что-то бормочет, утешая.
Похороны состоялись на кладбище Новодевичьего монастыря. Все, что надо было для этого, организовал Володя. Собрались все близкие: брат с женой, Ляля, соседи, несколько анархистов, оставшихся еще на свободе, и их жены. Анне в Курск не стали сообщать, так как она была беременна на последнем месяце и вот-вот должна была родить. О Ромнах и подавно речь не шла.
В десять часов к моргу больницы подъехал автобус. Николай и Володя вынесли небольшой гробик, поставили его в машину. При виде гробика у Лизы началась истерика, Николай уже держал себя в руках, обнял жену, прижал ее бьющуюся голову к своей груди.
В этот день отмечался какой-то церковный праздник, и в монастыре громко гудели колокола. В синем, без единого облачка небе кружились белые голуби, выделывая сложные виражи. Была глубокая печаль в колокольном звоне, синем небе и безмятежном полете птиц.
У ворот кладбища гроб перенесли на специальную тележку. Какой-то служащий собрался ее везти, но Николай оттолкнул его, и сам повез этот страшный груз, смотря на дорогу мутными от слез глазами. Лиза шла сзади, поддерживаемая Володей и Лялей.
Ляля не хотела приходить на похороны из-за Володиной жены, но не могла оставить подругу в такую трудную минуту. Всю дорогу в автобусе и обратно она плакала, вспоминая своих собственных детей, Машеньку и Сережу. «Почему жизнь так несправедлива к нам? – думала она, смотря на заплаканное лицо Лизы. – Мы, взрослые, живы, а наши дети умерли».
Церковные обряды большевики запретили; без отпевания и молитв все прошло быстро. На маленьком холмике поставили временную доску со словами «Оля Даниленко. 1917 – 1921». Подошла пожилая монашка, спросила, был ли ребенок крещен. Лиза кивнула головой. «Нынче много деточек умирает, – сказала женщина, разрывая и без того убитое горем сердце матери. – Мы читаем молитвы на их могилах». Володя вытащил деньги, но монашка отвела его руку и показала на небо, где по-прежнему беззаботно кружились голуби. «Вон они, ангельские детские души. Им там сейчас лучше, чем здесь, на земле». Не успели они отойти, как она затянула тоненьким голоском: «С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: Помяни, Господи, в Царствии Твоем усопшую рабу Твою, чадо мое Ольгу и сотвори ей вечную память».
– Идем скорее отсюда, – сказала Лиза, закрывая уши, – у меня сейчас сердце лопнет. Зачем они тут ходят?
– Это их мир. С мертвыми им легче, чем с живыми.
С кладбища все направились в Большой Чернышевский переулок. Не поехала только Елена, Володина жена, сославшись на детей и заболевшую тетю Пашу. Выглядела она расстроенной, и не только от того, что умерла ее племянница, которую она мало знала. Она тяжело переживала известие об исчезновении в Киеве отца и дяди, гибель Михаила и отъезд родных за границу. Приблизительно в то же время пришло сообщение из Петрограда о расстреле ее дяди Жилинского и князя Извекова.
Когда-то тесно связанная с этим кругом людей, она не понимала, что вокруг нее происходит, за что убивают ни в чем не повинных порядочных людей. Ее сестра Татьяна во всех подробностях описала, как они с Марией и слугой отца Макаром ходили по паркам Киева, разыскивая родных. Переворачивали трупы, вытаскивали их за руки и ноги из общей кучи мертвецов. Когда Макар нашел тело Михаила, изуродованное и обглоданное собаками (его узнали по одежде и отсутствию левой руки), Мария потеряла сознание. Дома, обезумев от горя, смотрела в одну точку и звала мужа: «Мишенька, Мишенька!» Поэтому они так быстро собрались и уехали в Крым, а оттуда за границу (только доехали ли до места?).
Однако, как ей ни было тяжело, по дороге на кладбище Елена внимательно изучала в автобусе всех женщин, надеясь распознать среди них особу, хотевшую увести от нее мужа. Соседок Николая по квартире она знала и видела раньше, как Татьяна смотрит на Володю своими красивыми, томными глазами. Ее она держала в числе подозреваемых «соперниц», но твердо не была уверена, что это она – слов нет, красивая, но глупая и фамильярная. Другие женщины, жены анархистов, закутанные сейчас в черные платки, на ее взгляд, ничем особенным не могли привлечь Володю.
Была еще Лизина подруга из Екатеринослава, Ляля. Видно, что из богатых. В дорогом, модном пальто, шляпе с черной вуалью, которую она приподнимала, когда вытирала слезы. У нее было свое горе: погибли при обстреле в этом Екатеринославе двое детей. Могла ли женщина после такого сильного потрясения увлечься мужчиной, и знал ли ее Володя раньше, раз она подруга Лизы? Об этой Ляле она никогда от них не слышала и увидела сегодня первый раз. Казалось, и муж ею нисколько не интересовался. Все-таки она занесла эту Лялю в свой черный список, решив как-нибудь потом поговорить о ней с мужем.
Воспользовавшись ее отсутствием на поминках у Даниленко, Володя сидел за столом рядом с Лялей. Никто на это не обратил внимания, кроме Татьяны, не сводившей с них глаз.
Ляля ему шепнула:
– Татьяна все время на нас смотрит, наверное, догадывается.
– Не обращай внимания.
– Она к тебе неравнодушна.
– Ну, что ты, она так смотрит на всех мужчин, – успокоил ее Володя, на самом деле давно заметивший, что Татьяна старается привлечь его внимание.
Вскоре Ляля собралась уходить. Володя пошел проводить ее. На углу Газетного переулка и Тверской улицы они остановились. Оглянувшись по сторонам, Ляля прижалась к его груди.
– У моей самой близкой подруги такое горе, а я счастлива, что увидела тебя и могу тебя обнять.
– Мне пора возвращаться, – сказал Володя, поднимая ее голову и целуя в обе щеки. – Лиза и Коля беспомощны, как дети.
– Да-да, я понимаю, – она смахнула рукой появившиеся слезы.
– Ну вот, ты опять…
– Это я так, от всего, что с нами происходит. Все нелепо, глупо и никуда от этого не деться.
…Гости постепенно расходились, последними ушли друзья из федерации анархистов. Татьяна с братцем не прочь были еще посидеть за столом, но под настойчивым взглядом Володи быстро удалились. Лизу он заставил выпить снотворное и лечь спать.
– Мы с тобой толком так и не поговорили, – сказал он брату, с жалостью смотря на его осунувшееся, потемневшее лицо. Нос у того заострился, спина согнулась, как будто он все эти дни таскал непомерные тяжести. – Когда тебе обратно в тюрьму?
– Осталось четыре дня. Как это тебе пришло в голову обратиться к Аристову?
– Лиза попросила. Он подключил еще Бухарина. Аристов разговаривал с Уншлихтом и спросил его в лоб: в чем тебя обвиняют? Тот ему толком ничего не мог сказать, дал понять, что, если Моисей Абрамович напишет в твою защиту еще одно поручительство, и Бухарин его поддержит, тебя могут совсем освободить с условием переехать в другой город, называли Вятку.
– Мне сейчас все безразлично. Тюрьма не тюрьма. Лизу жалко. Она очень мучается.
– Дело уже завертелось. И в тюрьме тебе нельзя больше находиться, у тебя нехороший кашель.
– Ты всегда мне это говоришь, а я до сих пор жив… Мы у вас завтра Веру заберем.
– Не надо, ей незачем здесь быть, и дезинфекция не выветрилась. Мой вам лучший совет: заводите другого ребенка.
– Другого? – ужаснулся Николай. – Олю мне никто не заменит.
– Посмотри на Лялю, она смогла вернуться к жизни.
– Благодаря тебе…
– И малышу. Растет такой чудесный мальчуган.
– Вы опять встречаетесь?
– Пошло по новому кругу. Думал, на фронте избавлюсь от своих чувств, ан нет – это сильней меня.
– Володя, – сказал Николай, – кто известит маму об Олечке? Я не смогу. Она этого не выдержит…
– Родите другого ребенка, тогда и сообщите.
– Нет в мире радости, которой можно заменить радость. Так, кажется, говорил Байрон.
– Ладно, умничать… Вот как быть с Ваней и Мишей? Сейчас мама мне часто пишет. Она так измучилась неведеньем о них, что уговаривает Марфу поехать в Киев и Екатеринослав.
– И поедет, с нее хватит. Как я сейчас ее понимаю: смерть своего ребенка невозможно пережить… Я тут знаешь, что надумал за эти дни, только не отговаривай меня: хочу поступить в медицинский институт, а работать буду по вечерам. Не верю, что Олечку нельзя было спасти.
– Зря ты так думаешь. Врачи сделали все, что могли.
– Жаль, – продолжал твердить свое Николай, – что мысль об учебе не пришла мне в Швейцарии или Париже, наши там многие получили дипломы бакалавров и магистров.
Володя посмотрел на часы.
– Мне пора. Встретимся перед тем, как тебе отправиться в тюрьму, и помни мой совет насчет ребенка: это спасет вас обоих.
Николай подошел к Лизе, она крепко спала под воздействием лекарств, погладил ее по голове, поцеловал в оголившееся из-под ночной рубашки плечо и прошел в свой кабинет. На столе стояла фотография Оли. До чего же она похожа на Лизу: такие же глубокие глаза, длинные ресницы и взгляд… взгляд, выворачивающий всю душу. У него заныло в груди. Он вернулся в комнату за водкой, выпил почти полную бутылку, но после закуски за поминальным столом не опьянел, как в прошлый раз, а только еще хуже разворошил свою боль. И в состоянии невыразимой тоски, охватившей все его тело, как тяжелая болезнь, повалился на диван.
Снова потекли тягостные дни тюремной жизни. Пока Николай отсутствовал, все его близкие друзья были переведены в Таганскую тюрьму. Без них стало совсем тоскливо. На допросы его давно не вызывали. Следователь, с дотошностью выяснявший в начале ареста его связь с Махно и подробности о деятельности «Набата», куда-то исчез. На письменное обращение к коменданту, Дукис отвечал одно и то же: дело расследуется, вас слишком много. Стало ясно, что никакого суда не будет. Всем занимается ВЧК, значит, их судьбу решают Дзержинский и Троцкий.
В конце мая состоялось закрытое заседание Президиума ВЧК. Николаю принесли выписку из протокола. Она была короткой: «Уншлихт, Менжинский и Самсонов слушали Дело № 7559 Даниленко Николая Ильича, обвиняемого в принадлежности к анархо-махновскому движению Конфедерации анархистов Украины «Набат». Постановили: дело отложить и поручить тов. Бренеру доложить на следующем заседании Президиума».
Кто этот товарищ Бренер? Может быть, тоже анархист, как Самсонов. Все бывшие анархисты (взять того же Могилевского), служившие ныне в ВЧК, отличались особой жестокостью к своим бывшим единомышленникам. Про Самсонова говорили, что он один из самых страшных преследователей и душителей анархистов. Если дело попадает к нему, считай, тебе пришел конец.
После этого протокола приносили другие, однотипные, как будто их писали под копирку, только ставили разные числа. Сначала он фигурировал в них один, затем в них появились фамилии Арона Барона-Канторовича (его настоящая фамилия), Фани Авруцкой, Лидии Гогелии, Шляховского, Ревеки Ярошевской, Алексея Олоницкого, Пилипенко, Проценко, Левадо, Чарина… Дукис объяснил ему, что все эти люди объединены в одну группу по связям с Махно. Таких групп несколько. Его дело теперь рассматривалось, как «Дело об анархистах: Бароне-Канторовиче и др., обвиняемых по статьям 57 и 69 Уголовных кодексов УССР и РСФСР». Обе статьи ничего хорошего не предвещали. Их всех отнесли к преступникам, чьи «действия направлены против социальных устоев, установленных властью».
Никого из перечисляемых в этом списке товарищей в Бутырке (во время редких прогулок и в переходах) он не видел. Как он знал, Барон сейчас сидел в Орловской тюрьме, его жена Фанни – в Рязанской, Ревека Ярошевская и Фаня Авруцкая – в Ярославской тюрьме, Лидия Гогелия – на Лубянке.
Сколько еще их будут держать в неизвестности? Аристов давно обратился к Уншлихту с ходатайством выпустить Даниленко на свободу под его ответственность, но тот тянул с ответом. Тогда верный друг отправил такое же письмо начальнику Особого отдела Менжинскому, но и тот молчал. Моисей связывал это с тем, что ВЧК за последние два месяца раскрыла и ликвидировала на территории РСФСР огромное количество заговоров против Советской власти (доклад об этом только что был опубликован в газетах), и Троцкий заявил, что все их организаторы должны понести самое суровое наказание. Выпускать кого-то на свободу в такой момент было не в интересах ЧК.
После смерти дочери в Николае что-то надломилось. Его мучили мысли о том, что, если бы он был дома, Оля осталась жива. Страшная картина ее агонии стояла у него в глазах, как будто это произошло только вчера.
– Лиза, – сказал он однажды жене во время свидания, – я все время думаю о нашей девочке… Мне кажется, я скоро сойду с ума.
– Ты меня пугаешь, Коля, – у Лизы сжалось сердце, глаза наполнились слезами.
– Прости, – спохватился Николай, что навесил на жену лишний груз страданий. – Это я так, минутная слабость. Пора начинать готовиться в медицинский институт. Володя узнавал: туда надо сдавать русский язык, физику и химию. Первые два для меня не проблема, а вот химию я совсем забыл.
– Я возьму в библиотеке учебник.
– Не надо. Володя обещал все достать.
– Ты меня расстроил. Теперь я буду переживать за тебя.
– Прости меня, дурака, я не имел права тебя огорчать.
Дома Лиза отправила Веру гулять во двор и легла на кровать, уткнувшись со слезами в подушку. Из головы не выходили слова Николая об их маленькой дочке. Она сама все время думает о ней. Но она не имеет права раскисать, иначе им обоим будет совсем плохо. Женским чутьем она понимала, что лучшее средство для них – родить еще одного ребенка (она не подозревала, что Володя уже дал такой совет Николаю), но когда это будет? Она так соскучилась по объятьям мужа, его ласкам, нежным словам. Лиза провела рукой по своим грудям: круглым и упругим, с вытянутыми сосками, как будто их только что держали губы малыша. «Ребенок, нам нужен ребенок, – сказала она вслух, как бы утверждаясь в этой мысли, – он вернет нас обоих к жизни». Это ее немного утешило, она вытерла слезы и принялась за домашние дела.
ГЛАВА 5
Дошел слух, что анархисты в Таганской тюрьме собираются провести голодовку, приурочив ее к открытию 3 июля I Учредительного конгресса Профинтерна. Этот Красный интернационал профсоюзов (Международное объединение революционных профсоюзов) был учрежден Коминтерном в противовес реформистскому профцентру II Интернационала. В Москву собирались приехать многие видные деятели профсоюзного движения, анархисты-синдикалисты, журналисты из социалистических газет.
В России уже находились Эмма Голдман и Александр Беркман. Их в числе большой группы русских эмигрантов, когда-то высланных из России за революционную деятельность, теперь власти США за такие же противоправные действия в Америке посадили на пароход и депортировали обратно на родину. Они надеялись увидеть там свободную страну и свободный народ, а увидели произвол правящей партии и массовые аресты ее политических оппонентов. Эмма успела побывать у Махно и отрицательно отнеслась к нему самому и движению украинских повстанцев. Несмотря на это, инициаторы голодовки рассчитывали, что Эмма и Александр поднимут на ноги иностранных делегатов, потребуют от Ленина и советского правительства устроить суд над арестованными анархистами или отпустить их на свободу.
Открытие Конгресса приближалось. Придя на свидание к Николаю в конце июня, Лиза увидела в проходной Бутырской тюрьмы объявление о том, что со следующей недели свидания временно отменяются.
– Наверное, таганцы выдвинули свой ультиматум, – предположил Николай, когда жена сообщила ему об объявлении. – Ты что-нибудь о них знаешь?
– Только то, что они направили письма Ленину, в ВЧК и Конгресс. Если они не получат ответ на свои вопросы, десять человек из камеры Максимова начнут голодовку. Там, кроме Гриши, находятся Волин, Горелик, Клаванский, Федоров, Ярчук и кто-то из молодежи… В Москву приехало много товарищей из Франции, кажется, даже Франсуа Бати и Мишель Штейнер.
– Как жаль, что я не могу с ними встретиться. Ты должна обязательно их увидеть.
– Боюсь, что у меня для этого не будет времени, – сказала Лиза, которой совсем не хотелось встречаться с Мишелем. Франсуа Бати – другое дело, близкий друг Готье, приятный человек, известный ныне писатель и журналист.
– Обидно. Сохрани для меня все материалы об этом конгрессе, пригодятся на будущее.
Прошло еще шесть дней. В Бутырке отменили не только свидания, но и передачи и прогулки. Николай удивился, когда однажды его вызвали на свидание и привели в комнату без железной решетки, отделяющей арестованных от посетителей. Он решил, что приехал Аристов. Неужели Уншлихт подписал просьбу Моисея об освобождении Николая?
Его охватило волнение. Однако в комнату быстрым шагом вошла женщина в широкой шляпе с темной кружевной вуалью. Пахнуло знакомыми французскими духами.
Охранник отошел к окну, с любопытством рассматривая посетительницу. Женщина подняла вуаль.
– Андри!? – удивленно и радостно воскликнул Николай. – Зачем ты пришла сюда, это опасно?
Он перешел на французский язык, но охранник прикрикнул, чтобы они говорили по-русски. Андри стала говорить на очень плохом русском языке, коверкая слова и путая падежи, видимо, все перезабыла без постоянной практики.
– Я должна была тебя обязательно увидеть и сказать важную вещь.
Николай насторожился: невольная догадка мелькнула в нем. Андри протянула ему руку, он поднес ее к губам, боясь, что сейчас последует окрик надзирателя, но тот молчал, и он продолжал держать эту руку, гладя ее красивые ухоженные пальцы.
– Я в Москву приехала вместе с папой и мужем на конгресс Профинтерна. Ты моего мужа знаешь, Мишель Штейнер. Они помогают товарищам из Таганки. Нам сказали, что ты тоже в тюрьме, только другой. Ты изменился, похудел. Я…я… очень по тебе скучала.
– Я виноват перед тобой, Андри. Перед отъездом в Россию я был на твоей квартире и оставил записку, где объяснил причину моего срочного отъезда. Почему ты тогда не приехала из Тулона?
– Телеграмма поздно пришла. Да и что бы это изменило? Ты все равно думал о России…, – она опустила голову, ее душили слезы. – Видишь, даже лучше получилось, ты снова сошелся с Лизой… – Она помолчала, собираясь с духом. – Я к тебе пришла не просто так. Когда ты уехал из Тулона, я поняла, что беременна.
– Да?! – Николай вскочил, вызвав недовольство охранника. Тот тоже вскочил и грубо осадил его: «Сядьте на место, а то прекращу свидание».
Андри вздрогнула, невольно втянув голову в плечи.
– Не бойся, Андрюшенька, – ласково произнес Николай, как обычно называл ее в Париже, – он ничего не сделает. Рассказывай дальше.
– Мама уговаривала принять меры, но я решила родить. Мне очень хотелось иметь от тебя ребенка, – Николай сжал ее руку. – Вскоре после твоего отъезда вернулся из Америки Мишель. Ты же знаешь: он когда-то ухаживал за мной в Женеве и был…, был твоим хорошим другом… Это нас сблизило. Он знал о моей беременности, знал и о наших с тобой отношениях, но никогда ни о чем не расспрашивал.
– Как это похоже на Мишеля!
– Родился мальчик, через два года – девочка. Девочка вся в Мишеля: темная, черноглазая, а мальчик – русый, с голубыми глазами, его зовут Nicolas.
– У тебя есть его фотография?
Андри вынула из сумки семейную фотографию. На переднем плане стоял крупный карапуз лет 3 со светлыми волосами, точная копия Николая в этом возрасте.
– Весь в меня, я тоже в детстве был такой белобрысый крепыш, – в голосе его послышалась гордость.
– Я приехала в Россию, чтобы рассказать тебе о Нике, но еще сомневалась, пока кто-то не сказал, что у тебя только что умерла дочь. Я решила, что в такой момент ты должен узнать, что у тебя есть еще сын.
– Ты – храбрая женщина. Представляю, как родители встретили известие о твоей беременности. Жанетт не испытывала ко мне особой симпатии.
– Теперь все забыто. Они одинаково любят обоих детей. И Мишель не делает между ними разницы. Я оценила это и со временем привязалась к нему. Мишель и папа тоже хотели с тобой встретиться, но им не разрешили. У них возникли проблемы с вашей властью: они послали в Париж материалы с критикой того, что здесь творится. Теперь ЧК просит всех журналистов предварительно показывать свои сообщения.
– И они это терпят?
– Кто терпит, а кто, как Мишель и папа, возмущается. – Она понизила голос. Охранник почему-то на это не отреагировал. – Вам с Лизой надо бежать за границу. Здесь невозможно жить. Ленин и Троцкий – страшные люди. Они установили настоящую диктатуру. Мишель говорил об этом на конгрессе. Все ваши товарищи сидели, опустив головы. Ими владеет страх.
– Нет, Андрюшенька. В Москве у нас есть квартира, у Лизы – работа и зарплата, я тоже, когда отсюда выйду, устроюсь на работу, а за границей надо начинать все с нуля. Для этого у меня нет сил.
– Мы вам поможем…
Николай покачал головой.
– Ты и сейчас продолжаешь любить свою родину, несмотря на то, что тут с тобой сделали? – спросила она. Этот вопрос ей дался нелегко: из-за его стремления вернуться в Россию навсегда они тогда и расстались в Париже. От волнения ее щеки покрылись румянцем.
– Конечно. Я ненавижу большевиков, но родина тут не причем… Когда Ник станет совсем взрослым, ты скажешь ему обо мне? Я бы хотел… И увидеть его. Ведь когда-нибудь наладятся отношения между нашими странами. Он приедет сюда, или мы поедем в Париж. Мишель правильно поймет.
– А Лиза?
– За это время мы состаримся, будем смотреть на все другими глазами. А впрочем, вы сами там решайте, как поступать, чтобы не травмировать мальчика…
Охранник объявил об окончании свидания.
– Ник, – торопливо сказала Андри, и ее темно-карие глаза наполнились слезами. – Я тебя тогда очень любила и в нашем сыне по-прежнему люблю тебя.
– Спасибо, Андрюшенька, – сказал он, ласково охватывая взглядом ее лицо, как будто целуя. – Я тебя тоже всегда помню.
В дверях он остановился, чтобы еще раз взглянуть на нее. Андри сидела, закрыв лицо руками, плечи ее вздрагивали.
Вернувшись в камеру, Николай взобрался на свои нары и уткнулся в стену, не отвечая на вопросы обеспокоенных соседей. Снова и снова возвращался к тому дню в Париже, когда получил письмо от Анны, и задавал себе вопрос: как бы он тогда поступил, если бы Андри сказала ему о беременности? Выхода из этой ситуации не было. Все получилось, как получилось. Их судьбами распорядилась сама жизнь. Андри правильно сделала, что приехала в Россию и все ему открыла: он теперь знает, что в Париже живет его сын с таким же именем, в нем течет его кровь, и он его очень любит.
ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ
НОЧНОЙ ГОСТЬ
ГЛАВА 1
В дождливую сентябрьскую ночь жильцы из 4-й квартиры на улице Огарева (так теперь назывался Газетный переулок) проснулись от резкого звонка. Один звонок был к «Евгеше». Сама она на эти звонки не откликалась: к ней никто не ходил. Все остальные имели свое количество звонков, о чем извещал длинный список на двери. По ночам свет в подъезде из экономии часто отключали, и поздние гости сначала давали один длинный звонок, затем начинали без конца трезвонить, пока кто-нибудь, не выдержав такого издательства, не подходил к двери.
Вот и сейчас звонок в три часа ночи разливался по коридору, разбудив всю квартиру, но никто не собирался выбираться из теплой постели. У Калягиных залаяли возмущенные болонки. Рыжая кошка Цыплаковых, обычно ночующая в коридоре на тряпичном коврике, испуганно мяукала и царапалась в дверь хозяев. Наконец, послышались торопливые шаги и сердитый голос Сергея Пафнутьевича, набросившегося на ночного гостя.
– Вы что себе позволяете? Разбудили всю квартиру. Для кого на двери весит список? Там представлены все фамилии. Кто вам нужен?
– Хазины.
– К ним восемь звонков. Запомните, это раз и навсегда, – Сергей Пафнутьевич махнул рукой в конец коридора, – последняя дверь слева.
Не желая, чтобы видели его лицо, человек поднял воротник черного широкого пальто, надвинул на лоб шляпу и двинулся по коридору в указанном направлении, оставляя на полу грязные следы.
В комнате Хазиных тоже проснулись. Ляля стала успокаивать заплакавшего сына, Ядвига Болеславовна выглянула за дверь. По длинному коридору, освещенному старинной люстрой с тремя лампами в потрескавшихся стеклянных плафонах, шел высокий мужчина. Что-то знакомое показалось ей в его фигуре и походке. У нее опустилось сердце: Лялин муж.
– Ляля, – повернулась она к дочери, смотря на нее расширенными от ужаса глазами, – по-моему, это – Артур.
– Откуда?
Ляля положила в кровать заснувшего сына и бросилась к двери. На пороге стоял Артур, он обнял ее за плечи и втолкнул обратно в комнату.
– Ну, здравствуйте, жена и любезная теща, – сказал он, целуя им обеим руки и подходя к детской кроватке. – А это кто? Вижу, ты без меня время не теряла.
– Что тебе надо? – Ляля еле сдерживалась, чтобы ему не нагрубить.
– Дело есть. Я побуду у вас до утра.
– Ты переполошил всю квартиру, тебя все видели и обязательно донесут куда надо, – сказала Ляля, заметив, что за эти два года он сильно переменился: похудел и постарел.
– На улице сильный дождь, вряд ли кто туда высунется, а утром я уйду. Ложитесь, я примощусь на полу.
Повесив на крючок мокрое пальто, он растянулся на коврике около детской кровати.
Спустя минуту в дверь постучали. Раздраженный голос Мельникова прокричал, чтобы Хазины немедленно вытерли лужи в коридоре.
Ляле ничего не оставалось, как взять на кухне общее ведро и швабру и вымыть весь длинный коридор. Вернувшись обратно, она осторожно, чтобы не задеть Артура, пробралась к кровати. Никто не спал, кроме сына. Ядвига Болеславовна тяжело вздыхала в темноте. Артур причмокивал губами, сдерживая желание курить.
– Ляля, – шепнул он.
– Что? – быстро отозвалась она, боясь, что он разбудит и напугает сына.
– У ребенка есть законный отец?
– Есть.
– Тогда где он?
– Ты громко говоришь, разбудишь Андрюшу.
– Впрочем, можешь не рассказывать. Мне твоя тетя расписала, как ты сюда привезла Сережу к профессору Даниленко, и он вокруг тебя потом крутился. Это тот врач, за которого ты хотела выйти замуж, а Наум Давыдович тебе не позволил?
– Он к сыну не имеет отношения.
– Что ты так переполошилась, мне до этого нет дела.
– Как ты нашел тетю?
– Через больницу, там при поступлении Сережи записали ее адрес.
Быстро вскочив, он пересел к ней на кровать. Ляля испуганно натянула на себя одеяло.
– Ты пьян! От тебя пахнет спиртным…
– Не бойся, я тебя не трону, – он помолчал и, дыша ей перегаром в лицо, шепнул. – Ляля! Мне нужны деньги.
– Откуда? У меня их нет.
– Семейные драгоценности: твои и мои.
– Все погибло в Екатеринославе во время артиллерийского обстрела. Говоришь о деньгах, а о Машеньке и Сереже – ни слова. Тебе безразлично, что они погибли.
– Это ты напрасно, – он с силой стукнул себя в грудь. – Вся душа изболелась о них и об отце. Я этих большевиков бил и буду бить. – Он схватил Лялю за руку, сделав ей больно. Даже в темноте она видела его сверкающие гневом глаза.
– Ты должна достать мне деньги. От этого зависит моя жизнь и судьба нашей организации.
– Я не хочу ни о чем слышать. Тут на каждом шагу агенты ЧК, все друг за другом следят.
– Ты же не хочешь, чтобы так было всегда? Мы освободим Россию и Украину от большевиков. Нас много, у нас есть оружие, войска. Но этого недостаточно. Я должен вернуться назад с деньгами…, потом я вернусь за тобой, мы снова заживем вместе. Вот увидишь, я изменился, все будет по-другому, и Андрюшу твоего возьмем, и Ядвигу Болеславовну. Только достань деньги. Иначе, иначе…, – он растерялся, не зная, какую ей выдвинуть угрозу.
– Ты меня убьешь?
– Нет, … придется расстаться с сыном.
– Негодяй, а говоришь, стал другим.
– Обстоятельства заставляют…
– Если я достану деньги, ты оставишь нас в покое?
– Даю честное слово, оставлю…Только учти, мне нужна крупная сумма.
Вернувшись на коврик, он еще почмокал губами и вскоре заснул, немного похрапывая и изредка вскрикивая во сне, как будто за ним кто-то гнался.
Ляля всю ночь не спала, с отвращением смотря на мужа, растянувшегося на полу. В Екатеринославе от него не было житья, теперь сюда явился ее мучить. Деньги у нее были, те, что Володя с учреждением сберкасс каждый месяц аккуратно клал ей на книжку. Она снимала их редко и только для сына, чтобы купить ему одежду и обувь, мальчик быстро рос. Остальное берегла на будущее. Там скопилась приличная сумма. И вот теперь ее надо отдать этому негодяю. Настаивать на том, что у нее ничего нет, не имело смысла: он осуществит свою угрозу, отнимет сына. Пойти в ЧК у нее не хватит духу, да и вряд ли там станут разбираться, арестуют их обоих. Как ни верти, выхода нет.
Утром она сняла всю наличность с книжки и вручила Артуру внушительный сверток в газете.
– Вот все, что у меня есть…
– Мало, – недовольно буркнул тот, развернув газету и прикинув на глаз сумму. – Но бог с тобой. Пойди, посмотри: есть кто-нибудь в коридоре?
Ляля приоткрыла дверь.
– Никого.
Не попрощавшись, он вышел из комнаты, по дороге гаркнул на дочь Цыплаковой, неожиданно выскочившей прямо на него из своей комнаты. Испугавшись, девочка закричала, на крик выбежала мать. Ляля тихо прикрыла дверь, чтобы не видеть разъяренного лица соседки.
Больше он не появлялся, и со временем они забыли о его визите.
ГЛАВА 2
За четыре года, прошедших со дня уплотнения квартиры купца Шиманского, состав ее жильцов увеличился почти в два раза: у кого, как у Ляли, родились дети, у кого, опять же, как у Ляли, прописались родители, бабушки, дедушки, кто-то вышел замуж или женился. С разрешения домкома прописывали также прислугу и детей, оставшихся сиротами со стороны родни.
Комнаты в квартире были большие, с высокими, в три с половиной метра потолками. Одному из жильцов пришла мысль возвести в своей комнате широкие антресоли с лестницей, своего рода второй этаж. И сразу такие сооружения появились почти во всех комнатах. Там жили дети, старики и прислуга.
Целый день в квартире стояли шум и гам: хлопали двери, жены ругались с мужьями и соседской прислугой, лаяли болонки Калягиных, дети катались на трехколесных велосипедах, а одноногий инвалид дядя Паша в пьяном виде так наяривал на баяне военные марши, что его слышно было на всех этажах дома. И сколько старший по квартире Мельников ни пытался навести порядок, вывесив в коридоре и на кухне правила поведения жильцов, толку от этого было мало. Однако жили дружно, делились солью, хлебом, мукой, мылом, старались следить за чистотой в общественных местах, по графику мыли окна, полы и крашеные стены, которые дети постоянно разрисовывали цветными карандашами.
Одним словом, жизнь в огромной квартире кипела. Одна только Евгения Яковлевна в этом не участвовала, по-прежнему готовя пищу у себя в комнате и посещая туалет и ванную в часы, когда народ уже спал, а кто не спал, слышал, как в ванной долго текла вода – «старая грымза» стирала белье. Темная, загадочная личность, на которую со временем все перестали обращать внимание.
И, конечно, мало кто помнил, а кто и вовсе не знал, что когда-то ее семья целиком владела всей этой квартирой, самим доходным домом и другими домами на этой и других улицах, а Московская городская дума присвоила ее отцу, Якову Семеновичу Шиманскому звание Почетного гражданина Москвы – «за выдающиеся заслуги перед городским сообществом в обеспечении москвичей удобным жильем». Так значилось в Приговоре Чрезвычайного собрания гордумы от 12 мая 1901 года, спрятанном Евгенией Яковлевной в большой сундук вместе с другими бумагами и документами, которые могут ее дискредитировать перед новой властью.
От них давно надо было избавиться, но рука не поднималась выбросить то, что еще связывало ее с близкими людьми. Также не могла она выбросить их фотографии, висевшие на стенах. Были здесь и предвоенные фотографии ее мужа и детей, и фотография мужа вместе с генералом Алексеем Алексеевичем Брусиловым где-то на Буковине на фоне гор.
Муж был убит там же в Карпатах в сентябре 16-го года. Мальчики сражались на Кавказском фронте. Евгения Яковлевна исправно получала от них письма, но с начала 1917 года они перестали приходить. На ее запрос из штаба Юденича ей ответили, что они пропали без вести: или погибли, или попали в плен к туркам, сражаясь где-то в Месопатамии, а те, как известно, с русскими пленными не церемонились.
С тех пор прошло много лет. Как каждая мать и жена, она верила, что все трое живы и рано или поздно вернутся домой, разговаривала с ними, как с живыми, но не вслух, а на бумаге, записывая свои мысли в тетрадь.
«Вот ты, Петенька, – спорила она с мужем, бросая любящие взгляды на его фотографию, – всегда внушал нашим детям, вроде Льва Николаевича Толстого, что надо любить и уважать простых людей, мол, они достойны лучшей жизни, много работают, а получают гроши. Берите пример, говорил ты, с дедушки Якова Семеновича. Он совершал добрые дела для города. Звание Почетного гражданина Москвы просто так не дается. Его надо заслужить.
Ах, Петенька, Петенька, как ты глубоко ошибался! Эти простые люди не нуждались в нашей жалости и любви. Теперь они живут в нашей квартире, стучат в мою дверь, чтобы позлить меня, так как я не хочу с ними общаться и выходить на общую кухню, где около плиты вертятся 15 или 20 человек и сплетничают друг о друге. Тут же на веревках сушится белье, отчего пол всегда мокрый, а от кипячения белья в ведрах и огромных баках по всей квартире плывет горячий пар. В коридоре и на кухне потолок стал черный, стекло на люстрах потускнело и кое-где треснуло.
Ты, Петенька, сражался за родину, за русский народ, и вот чем этот народ нам отплатил: презрением и неблагодарностью. Меня они называют «старой грымзой». За что? Ведь я их не трогаю и прилюдно ни в чем не упрекаю. Откровенно могу беседовать только с тобой и мальчиками».
«А ты, Митенька, – обращалась она к фотографии старшего сына, снятого в детском возрасте в матроске, – вытащил из боя тяжело раненного солдата Червянкова. Тащил его несколько километров на своей спине, сам раненный в плечо. Потом этот солдатик организовал в Москве красногвардейский отряд из рабочих и расстреливал в Александровском саду юнкеров и офицеров. Там погиб твой дядя, который прошел всю войну и дослужился до звания капитана. Этот Червянков теперь возглавляет районный Совет депутатов и при встрече со мной отворачивается в сторону. Стыдится, что знаком со мной, или помнит о том, кто спас ему жизнь, но боится показать свои чувства. Если второе верно, то в нем еще осталась совесть».
«А ты, Сашенька, почему-то всегда молчишь, – упрекала она младшего сына – студента Московского университета, стоявшего с томиком Блока в руках, на котором хорошо было видно название «Ночные часы» и год издания, 1911, – тебя, наверное, до сих пор беспокоит пуля в бедре, и болит живот. Помнишь, как мы любили ездить гулять на Воробьевы горы и там у одной крестьянки прямо с грядки покупали крупную клубнику. Теперь я туда не езжу, гуляю только в центре. После работы поднимаюсь вверх по Петровке и захожу в библиотеку, где молодые поэты читают стихи: свои и чужие. Ты туда тоже ходил и увлекся там одной молоденькой поэтессой. Теперь я ее не вижу.
Недавно в библиотеке был вечер, посвященный памяти Блока. Александр Александрович написал поэму «Двенадцать», где выведен Христос, идущий во главе отряда красногвардейцев. Большевики отыскали в этом глубокий смысл, решив, что в образе Бога поэт благословил революцию и сам ведет свою паству в светлое будущее.
Я же вижу в этой поэме все самое страшное: злобные лица солдат (бывших каторжан с цигарками в зубах) и застывшие в их глазах преступления: убийства, грабежи, насилие и смерть – чудовищный страшный мир, который они принесли в нашу жизнь вместе с революцией. Во главе одного такого бандитского отряда будто бы и появляется Иисус Христос «в белом венчике из роз».
Но это обман зрения. Рядом с бандитами идет другой отряд, невидимый для глаз из-за темноты и пурги. Его-то и возглавляет Христос. В этом отряде – все наши великие мученики, принявшие смерть от этих каторжан и убийц. Вместе с Христом они стараются увести злодеев от греха подальше и прекратить кровопролитие. Но злодеи сильней Христа. Они отказались от Бога и стреляют в него и в неугодных им лиц.
Ты, скажешь, Сашенька, что ваша мать сошла с ума. Нет. Это мир сошел с ума. Мне теперь и жить незачем, а я живу. Почему? Для кого? А все-таки живу. Значит, мой час еще не наступил, и есть надежда вас увидеть. «Ох, я дышу еще мучительно и трудно. Могу дышать. Но жить уж не могу».
«Сашенька, – писала она сыну позже, – только не смейся. До чего дошли большевики. Считая своим долгом вмешиваться в «народное» образование, они в своей партийной программе записали следующее (цитату привожу из их официального органа «Правда»): «В области народного просвещения РКП ставит своей задачей довести до конца начатое с Октябрьской революции 1917 г. дело превращения школы из орудия классового господства буржуазии в орудие полного уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистического перерождения общества.
В период диктатуры пролетариата, т.е. в период подготовки условий, делающих возможным полное осуществление коммунизма, школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитывающего влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм».
Меня или уволят, или заставят быть «проводником» их идей, а я в этом деле ничего не понимаю и не хочу понимать. Есть одна литература: Толстого и Блока; как ее соединить со школой коммунизма, не представляю. Некоторые учителя бастуют, отказываются принимать новые установки этих правителей. Судьба их печальна».
ГЛАВА 3
С некоторых пор в их подъезде свет часто отключали, и, возвращаясь поздно вечером после своих бессмысленных хождений по улицам или поэтических чтений в библиотеке, Назаровой казалось, что на нее вот-вот кто-нибудь набросится.
Сегодня свет горел, и все равно она вздрогнула, когда с верхней лестницы навстречу ей сбежал невысокий крепкий мужчина и, взяв ее за локоть, тихо сказал:
– Я к вам по делу, не бойтесь меня.
– Какое еще дело? Что вам нужно?
– Мне нужно поговорить с вами. Я – из ЧК. Нам все известно о вашем прошлом, вашем муже и сыновьях, находящихся у Деникина. Вы поступили на работу в школу, скрыв в анкете все сведения о своих родных.
– Все мои близкие или умерли, или погибли на фронте. Я осталась одна.
– Никто этого подтвердить не может, не исключено, что ваш муж и сыновья ведут контрреволюционную деятельность против советской власти.
– Господи, вы опять о том же. Со мной уже говорили об этом в вашей ЧК, я им показывала газеты со списками убитых и пропавших без вести, где указаны фамилии моего мужа и сыновей.
– Нам нужна ваша помощь. Она не будет вам ничего стоить.
– Ваши товарищи уже обращались ко мне с такими просьбами, я не расторопна, неуклюжа, только испорчу любое дело.
– Не советую вам отказываться, – холодные глаза чекиста пронзили ее насквозь. – В вашей квартире проживает некая Елена Хазина из Екатеринослава. К ней недавно приходил ее муж, связанный с подпольной организацией. Нам важно выяснить, кто у Хазиной бывает еще и кто отец ее ребенка. Легче всего это сделать на кухне.
– Я ни с кем не общаюсь, готовлю все в комнате. У меня нет на кухне своего места и стола.
– Мы вам поставим. Войдите в контакт с Хазиной, ее матерью, другими соседями или прислугой, которая всегда все знает. Каждую среду по дороге с работы вас будет встречать наш человек Иван.
Незнакомец помог ей открыть дверь в квартиру, и сам за ней прикрыл. Дрожащими руками она вставила ключ в замок комнаты. Ее бил озноб. Пользуясь ее слабостью и беззащитностью, чекисты толкали ее на самое мерзкое дело, какое только может быть: следить за соседями. Они предлагали это и раньше, до сих пор ей удавалось отказываться, ссылаясь на плохое зрение и рассеянность. Она была уверена, что такую роль уже выполняют старший по квартире Мельников, его супруга и многие другие, кто выглядывает из своих комнат, когда открывается входная дверь.
«Тут все шпионят друг за другом», – давно пожаловалась она в записях своему мужу. Сейчас им, видимо, очень нужна была эта Ляля и ее муж, тот мужчина в шляпе, который однажды ввалился к ним ночью, переполошив всю квартиру.
Она хорошо помнила ту ночь. Проснувшись от резкого звонка, она спустила ноги с кровати, нащупала тапочки. Сердце бешено колотилось, как обычно бывает, когда сон резко прерывается, руки дрожали. «Может быть, это мои мальчики, – почему-то подумала она, и тут же отбросила эту мысль: они бы не стали ломиться в дверь посреди ночи».
Звонок повторился, продолжительный и от этого особенно тревожный. В коридоре было тихо. Она открыла свою дверь, но ее опередил Мельников, с руганью набросившийся на посетителя; выглядывали их комнат и другие соседи. Евгения Яковлевна видела этого человека совсем близко, но не смогла рассмотреть его лица, закрытого шляпой и воротником пальто. «Экий неосторожный, – подумала она сейчас про него сердито, – привлек внимание всей квартиры».
В воскресенье грузчики привезли кухонный стол, прошли вместе с ней на кухню и втиснули его между столами Цыплаковых и Хазиных, для чего крайний стол Шараповых пришлось отодвинуть к окну. Возмущенная Шарапова побежала звать на помощь Мельникова. Сергей Пафнутьевич сразу сообразил, что к чему, и тихо удалился в свою комнату. В кухне еще долго царил шум. Растерянные жильцы с возмущением наблюдали, как Евгеша обживала свое новое место, перенося из комнаты кастрюли и сковородки.
С тех пор она каждый день по утрам и вечерам выходила на кухню, готовила еду и разговаривала с женщинами о погоде, ценах в магазинах, разных других житейских делах, чтобы расположить их к себе. Все пришли к выводу, что она вполне милая, общительная женщина, приняли ее в свой круг, где, болтая о разных глупостях, позволяли себе вольные шутки, а иной раз и критику в адрес Мельникова, его жены, домового комитета и даже власти.
Постепенно Назарова сблизилась и с Ядвигой Болеславовной. Та, найдя в своей новой соседке по столу терпеливую слушательницу, с удовольствием рассказывала ей о внуке, его успехах в развитии, жаловалась на то, что ее дочери приходится много работать в больнице и часто дежурить по ночам, но ничего другого из того, что интересовало ЧК, выведать у нее не удавалось. Сама Ляля появлялась на кухню редко и, несмотря на все старания Евгении Яковлевны, в разговоры с ней не вступала.
– Плохо работаете, товарищ Назарова, – упрекал ее на встречах уже другой чекист, Иван, гладко выбритый, подтянутый и циничный. Бывший рабочий с ситценабивной мануфактуры Цинделя, крепко уверовал в то, что ради революции, можно пойти на сделку с совестью, – больше улыбайтесь, начинайте с литературы и искусства, эти дамочки – интеллигентные, их не интересуют цены в магазинах и кухонные сплетни. Пригласите Ядвигу Болеславовну к себе на чай, расскажите о своем муже и сыновьях, вступивших в Добровольческую армию, намекните, что и в Москве есть люди, которые борются за восстановление монархии и хотят вернуть свою собственность обратно. Муж этой Ядвиги Болеславовны и свекор Хазиной были крупными предпринимателями в Екатеринославе.
– Молодой человек, я не умею располагать к себе людей. Мое сердце давно очерствело.
– Вы, наверное, умеете вязать, – упорно наставлял ее молодой чекист. – Вот так и в беседе с людьми раскручивайте, раскручивайте клубок, пока не доберетесь до конца. Вы грамотный человек, выпускница Института благородных девиц, должны мыслить логически.
«Петенька, – сделала она после этой встречи запись в тетради, обращаясь к мужу. – Чекисты ищут людей, которые хотят снова восстановить самодержавие и вернуть бывшим хозяевам их собственность. Представь только на минуту, что мне могут вернуть наш дом или хотя бы нашу квартиру. Но это все ложь. Чекисты опутали своей сетью все население. Я слежу за одной соседкой, за мной следит еще кто-нибудь и так все дружно раскручивают клубки, докапываясь до нужных им сведений. Какое в этой стране вырастет поколение, если они заставляют меня, учительницу словесности, призванную воспитывать детей на высоких идеалах литературы, шпионить и доносить на других? Мне стыдно смотреть ученицам в глаза, я сама себя перестала уважать.
Вести эти записи становится опасно. Если я не справлюсь с их заданием, а я не справлюсь, потому что вся моя душа восстает делать подлость хорошим людям, меня арестуют и произведут тут обыск, а я не хочу, чтобы они прочитали мои мысли, связывающие меня с тобой и мальчиками. Открою тебе последнюю тайну и сожгу тетрадь: я хочу сбежать в деревню Чоботово, где-то под Тотьмой, откуда была родом моя любимая няня. Там должны остаться ее дети и внуки, которые к нам приезжали и подолгу жили у нас без всяких денег. А если их даже нет, как-нибудь устроюсь, стану простой крестьянкой или сельской учительницей. Мне сейчас тепло и уютно от этих мыслей и разговоров с тобой. Прощайте мои милые! Обрывается последняя связь с вами».
Поставив последнюю точку, Евгения Яковлевна достала большой таз, сложила в него свои тетради, письма мужа и сыновей, чиркнула спичкой. В комнате запахло гарью. Она широко распахнула окна и крикнула стучавшим в дверь обеспокоенным соседям, что у нее убежал со спиртовки коффий.
В их большой квартире некоторые соседи дружили между собой, отмечая вместе праздники, дни рождения, а то и просто устраивая от скуки застолья с самогоном и домашними наливками, несмотря на строгий сухой закон, установленный царским правительством в начале войны, который новая власть не спешила отменять.
В начале октября Евгения Яковлевна пригласила Ядвигу Болеславовну и ее дочь якобы на свой день рождения (по-старому именины). Те откликнулись, принесли подарок – коробку мармелада и духи Шанель, остатки от прежней роскоши этой семьи. Пили чай и вспоминали дореволюционную жизнь. Именинница рассказывала о своих нынешних ученицах, девочках из рабочей среды, далеко не глупых и жадно тянущихся к знаниям. Ей удалось расшевелить Лялю. Та рассказала, что недалеко от них, на улице Станкевича живет ее близкая гимназическая подруга Лиза. В свое время они увлекались стихами Блока, Северянина и Андрея Белого.
В ЧК об этой подруге, оказывается, знали.
– Ваши сведения ничего не стоят, – скучным голосом заявил ей Иван. – Мужа Хазиной сейчас разыскивает некий Сергей Карпухин. Он был в Сокольниках у тети этой Ляли, спрашивал ее адрес. Наши агенты его упустили. Ждите его на днях в вашей квартире.
– Я могу быть в это время на работе.
– Сомневаюсь, чтобы он пришел днем. Такие люди ходят по ночам. На этот раз он даст восемь звонков и не будет поднимать на ноги всю квартиру.
«Они все знают, – удивилась Евгеша, – зачем им нужна моя помощь?»
– Как только этот человек или любой другой ночной визитер появится, сразу звоните по этому номеру, – он протянул ей листок бумаги. – Если вы или мы его упустим, нам всем несдобровать.
Накануне 7 ноября, 4-й годовщины Октября домком устроил в подвале дома, превращенном в клуб, праздник для детей, что-то вроде карнавала. В пригласительных билетах, врученных каждой семье, приветствовались маски и костюмы для детей и сопровождавших их родителей. Народу в комнате набилось много: взрослых больше, чем детей.
Для компании Ядвига Болеславовна позвала на праздник и Назарову, открыв ей, что у Ляли будет маска лисы, а у Андрюши – маска клоуна с красным бумажным носом, очками, усами и длинным колпаком на резинке, чтобы не спадал с головы.
Женщины стояли около сцены, слушая, как дети читают стихи и исполняют песни. Они так увлеклись, что Назарова совсем забыла о задании ЧК и не видела, как к Ляле, стоявшей где-то сбоку, подошел мужчина в маске льва. Как бы весело играя, он подхватил Андрюшу на руки и закружился с ним, не отдавая его на требования перепуганной на смерть матери. Мальчик принял всю эту игру за чистую монету, весело смеялся, брыкался ножками, отталкивал руки матери и просил дядю крутить его еще быстрей. Наконец Ляле удалось схватить сына за ноги.
– Ради бога, – зашептала она мужчине, задыхаясь от волнения, – я сейчас закричу. Отпустите ребенка.
– Надеюсь, вы поняли, что я от вашего мужа и шутки с нами плохи. Мне нужны деньги. Завтра я буду ждать вас в восемь вечера около памятника Скобелеву.
– Артур сказал, что больше не будет у меня ничего просить. Я получаю голую зарплату.
– Попросите у вашего профессора. У него есть, а нет, так пусть достанет, – жестко сказал он, опуская мальчика на пол. Тот, наконец, понял по лицу матери, что этот дядя – плохой, заревел благим матом, и, бросив на пол свой колпак, зарылся лицом в складки ее платья.
Только тут Ядвига Болеславовна и Евгеша заметили, что около Ляли и ее сына вертится какой-то тип, и Ляля, подхватив на руки Андрюшу, в страшном волнении выбежала из зала. Евгения Яковлевна бросилась к человеку в маске льва, чтобы проследить за ним, но тот, успев поменять маску, затерялся в толпе. Тут совсем некстати баянист дядя Паша заиграл вальс. Схватившись за руки, дети закружились в хороводе, а все остальные гости отступили к стене. Задание было провалено. Огорченная Евгеша отправилась домой. Ядвига Болеславовна ушла сразу за Лялей. Дочь тихо, чтобы сын не слышал, рассказала ей о том, что случилось на маскараде.
– Что делать, что делать? – повторяла, как безумная, Ляля, не обращая внимания на ревущего Андрюшу, теперь он требовал вернуться обратно в зал. Ляля вынула из шкафа подарок, который Володя давно передал ей для сына, – грузовик, набитый солдатиками. Тот замер от восторга и, усевшись на пол, стал возиться со своим большим войском.
– Где взять деньги? – задумалась Ляля. – Придется отнести в скупку всю мою зимнюю одежду и твою чернобурку.
– Доченька, столько бед на нашу голову, теперь еще и это. Как только у Артура хватило совести ввязывать нас в свои грязные игры после того, что мы пережили с детьми и вашими отцами?
– Он надеется отомстить большевикам.
Ядвига Болеславовна считала, что надо немедленно пойти в ЧК и все там рассказать. Как веревочки не виться, ЧК выйдет на след этой организации и узнает, кто им давал деньги. Лучше самим первым во всем признаться. «Поздно, мама, – покачала головой Ляля. – Надо было это сделать сразу, теперь нам никто не поверит». Она была уверена, что ЧК заберет и ее саму как сообщницу, и тетку, вынужденную под угрозой смерти давать всем людям Артура приют и сообщать адрес племянницы, да еще и Володю сюда привлекут. И посоветоваться не с кем. Лизу и Николая, только что вернувшегося из тюрьмы, она не хотела, нет, просто не имела права, втягивать в это дело.
Евгения Яковлевна заметила, что Хазина продала свою шубу и меховую шапку и доложила об этом ЧК – теперь к ней приходил другой человек, Петр, вечно хмурый и недовольный. Ее информация запоздала. Агенты проследили, как Ляля сдавала вещи в скупку, затем отправились за ней на встречу со связным у памятника Скобелеву. Этого человека арестовали. Как они и предполагали, им оказался Сергей Карпухин. Лялю пока не трогали, ожидая, что к ней будут приходить еще люди от сообщников мужа.
Чекист требовал, чтобы Евгения Яковлевна, наконец, выяснила, кто отец маленького Андрея. По сведениям других соседей из их квартиры, к Ляле одно время приходил представительный мужчина, возможно, он был не только отцом ребенка, но и важным агентом контрреволюционного подполья.
– Тот человек к ним больше не ходит, – оправдывалась Евгеша, видевшая его всего один раз, – а Хазины о нем ничего не рассказывают.
Петр посоветовал ей узнать, где Ляля гуляет с ребенком, возможно, этот человек встречается с ней во время прогулок. Теперь все свободное время Евгения Яковлевна проводила в Александровском саду, а неподалеку от нее прогуливался человек из ЧК. Действительно, в одно из воскресений в пять часов вечера к Ляле подошел тот высокий представительный мужчина, который раньше ходил к Ляле, передал ей сумку с продуктами, конверт и быстро ушел, расцеловав на прощанье Лялю и ребенка. Евгеша кивнула чекисту, и тот последовал за ним.
– Ну, наконец-то, вам хоть что-то удалось сделать полезное, – остался доволен Петр. – Мы выяснили, кто этот человек. Выношу вам личную благодарность.
Назарова страдала от того, что вынуждена сотрудничать с ЧК и причинять боль симпатичным ей людям. «Я совершаю подлость, – говорила она своим родным на фотографиях. – Что мне делать? Они никогда не оставят меня в покое, посадят этих, найдутся следующие, и так будет без конца».
– Беги, мама, беги, – прочитала она в глазах младшего сына. – Ты права. Они используют тебя на полную катушку и выбросят, как отработанный материал.
– Фу, Сашенька, как грубо ты разговариваешь, я никогда не слышала от тебя таких слов. Так разговаривают красногвардейцы. Помните, я вам рассказывала о поэме Блока «Двенадцать». «Что, Катька, рада? – Ни гу-гу… Лежи ты, падаль, на снегу». Вот их лексикон.
– Беги, Женя, беги, – вторил сыну муж. Ты превратилась в нервную, издерганную особу.
– Я давно уже психопатка, разговариваю сама с собой и с вами, но одна не пью, а это, как говорил наш милейший доктор Николай Сидорович Стеблов, последняя степень алкоголизма.
ЧАСТЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ
СВОБОДА, НО НАДОЛГО ЛИ
ГЛАВА 1
Наконец ВЧК рассмотрела ходатайство Аристова об освобождении анархиста Даниленко под его личную ответственность, и в начале августа Николая выпустили из тюрьмы. Он был так слаб, что добравшись на трамвае до дома, сразу лег на кровать. В квартире было непривычно тихо. Ольга с утра отправилась в тюрьму на свидание с Григорием. Лиза, Татьяна и маленький братец были на работе (брат и сестра устроились на Почтамт в отделение посылок). Третьей их сестре Раисе жить в Москве не понравилась, и она еще в мае вернулась домой, в деревню. Вера отдыхала на даче в Кунцево с Володиной семьей. Два раза в коридоре звонил телефон, но пока он, с трудом передвигая ноги, добирался до него, звонок обрывался. Он смотрел в потолок, грустно улыбался и сочинял про себя стихи: «Муж-инвалид пришел домой и сразу лег в кровать// Он хочет есть, он хочет пить, но лень ему вставать».
В этих комнатах до отъезда на Украину он жил почти два года с небольшими перерывами, ничего не покупая из мебели и ничего не меняя. Теперь везде чувствовалась женская рука: занавески, гардины, покрывало на кровати, скатерть на столе. Все, наверное, подарила Елена, Володина жена. Белый рояль по-прежнему стоял в простенке между окнами. Лиза поставила на него вазу и подсвечник с четырьмя рожками, как было когда-то в доме Фальков в Екатеринославе. Сейчас в вазе стоял большой букет полевых цветов с дачи.
Вечером пришел Володя, принес продукты и бутылку армянского вина. Теперь, с введением НЭП в магазинах все можно купить, были бы деньги. Новая экономическая политика – так окрестили большевики возврат в стране к капиталистическим отношениям и капиталистическому рынку. Лиза счастливая, что Николай, наконец, вернулся домой, как на крыльях летала из комнаты в кухню и обратно, готовя обед и одновременно разговаривая с братьями.
На обед был украинский борщ (с чесноком и салом, как готовила в Ромнах Елена Ивановна), утка с яблоками и фрукты под вино. Мужчины брали на все добавку, и под конец, отяжелев от еды, полулежали на диване, разговаривая.
– Больше ешь и гуляй на улице, – внушал брату Володя, довольный, что они оба успокоились и не говорят об Оле. – А еще лучше поживи у нас на даче.
– Не имею права отлучаться из Москвы.
– А что твой покровитель Аристов?
– Подал Дзержинскому еще одну просьбу, чтобы меня оставили в Москве, а то придется вам ездить в Вятку.
– Лучше туда, чем в Бутырку, – вздохнула Лиза и обратилась к Володе. – ЧК до сих пор не отпускает нашего соседа и остальных анархистов, которые провели голодовку в Таганской тюрьме. Их обещали отпустить еще месяц назад. Мы все тут на взводе. Не знаешь, что от ЧК ждать.
– Тем более надо уехать из Москвы, чтобы о тебе забыли.
– Бесполезно. Они везде найдут. Аресты постоянно идут по всей стране. Ты отнес мои документы в университет?
– Отнес. Тебя зачислили. С 1 сентября начинаются занятия.
– И не помешало, что я сижу в тюрьме?
– Меня там все знают, даже не было вопросов.
– Ты знаешь, что я не люблю кумовства.
– Смени фамилию и иди, добивайся все сам, раз ты такой правильный, – сердито буркнул брат (упрямство Николая в этом плане ему было хорошо известно). – Могу хоть раз в жизни сделать для тебя что-нибудь полезное.
- А-а-а, – махнул рукой Николай, – делайте, что хотите.
– Не представляю, как ты будешь одновременно учиться и работать, – сказал Володя, оглядывая его худую фигуру и нездоровый, серый цвет лица, – окончательно себя погубишь. Мне твоя идея с учебой не нравится.
– Это уже решенный вопрос, обсуждению не подлежит. Только дальше никакого кумовства. Все экзамены буду сдавать сам.
– А если завалишь сессию?
– Ты такое помнишь в моей жизни?
– Нет, но тогда мы были молодые.
– Ничего, и сейчас у меня хватит сил. Было бы желание, остальное все приложится.
Как-то поздно вечером неожиданно приехал Аристов. Перед этим позвонил по телефону, попросив Лизу в условленное время открыть дверь, не хотел, чтобы его кто-то видел. Предостережение было не лишним. Последнее время Лиза стала замечать, что Татьяна, в принципе добрая и милая девушка, проявляет слишком много любопытства к их делам, ей даже казалось, что она подслушивает около двери. Это тем более было неприятно, что они с Максимовыми жили, как одна семья, и сейчас вместе с Ольгой переживали за Григория.
Моисей принес с собой коньяк, шампанское, балык, ветчину, швейцарский сыр – все из распределителя для высшего руководящего состава, даже Володе по спецзаказам такие деликатесы не перепадали.
– Боже, какая роскошь, – воскликнула Лиза. – Я уже забыла вкус всего этого.
Накрыв стол, она собиралась уйти, чтобы дать мужчинам возможность поговорить, но Моисей удержал ее руку:
– Останься, у меня для вас радостная весть.
– Говори скорей, – взмолилась Лиза, – Колю оставляют в Москве?
– Да. И это еще не все. Он будет работать в статистическом управлении наркомата труда, там есть вечерняя смена. Завтра придешь в отдел кадров, тебе оформят трудовую книжку.
Лиза набросилась на него с поцелуями
– Моисей, какой ты замечательный друг!
– Лизонька, что могу, то делаю…
Моисей ловко открыл шампанское, аккуратно разлил его по бокалам, дожидаясь, когда уляжется пена.
– За вас и ваше счастье! – сказал Моисей и смачно поцеловал Лизу в губы. – Коля, до чего ж у тебя жена – красавица, за одни глаза всю душу отдашь.
– Моисей, – Николай удивился таким вольностям старого друга, – раньше ты себе этого не позволял. Ты пьян.
– Ну вот, чуть слово про Лизу скажешь, уже пьян. До чего же я люблю вас обоих! У вас есть рояль?! Лиза, сыграй что-нибудь по старой памяти.
– Я на нем еще ни разу не играла. Да и все уже перезабыла.
– Уважь старого друга. Хочется, хоть на миг вернуться в прошлое, в Женеву, наш пансион, к мадам Ващенковой.
Лиза подняла крышку и слегка провела по клавишам. Рояль был сильно расстроен.
Она негромко заиграла и запела. Моисей закрыл глаза и тихо раскачивался в такт, подпевая ей. Николай смотрел на них и улыбался. Им было хорошо, как будто они, действительно, вернулись в то старое, доброе время. Лиза сама вдохновилась своей игрой, ей пришла в голову шальная мысль.
– Коля, открой окно. Шире, шире, совсем нараспашку, – весело приказывала она мужу. И вдруг со всей силой ударила по клавишам польку-галоп Штрауса. – А теперь посмотри на улицу. Люди останавливаются?
– Нет, только оглядываются по сторонам.
– Скучные люди. Бывало, в Ялте вся улица сбегалась к нашему дому, чтобы послушать, как я играю и пою. А этим все равно.
Закрыв окно, она ушла в другую комнату, оставив мужчин одних. Моисей открыл коньяк, налил в рюмки. Выпили, не дотрагиваясь до приготовленных Лизой бутербродов. Моисей наклонился над столом и, приблизив лицо к Николаю так, что он чувствовал жар его дыхания, стал ему шептать, что он – единственный человек, которому он всегда доверял и доверяет, что там, наверху творится черт знает что, но у них с Николаем семьи, и, несмотря ни на что, им надо выживать.
– Я тебе нашел приличное место, – Моисей откинулся на спинку стула и заговорил вслух. – Лиза работает в хорошем издательстве. Постарайтесь оба закрепиться на своих местах, мало ли что со мной может случиться.
– Тебе что-то угрожает?
– Да нет, ничего, просто в этом мире все непрочно. Помнишь, ты всегда раньше сетовал, что анархисты не могут найти общий язык?
– Ну, да. Это и погубило наше движение.
– И у большевиков идет борьба, только хуже, страшнее: жрут друг друга насмерть, в каждом видят врага, и все знаешь из-за чего?
– Не трудно догадаться: из-за власти.
– Как говорил Кропоткин, власть портит даже самых лучших людей. Увы!
– У этой фразы есть продолжение.
– Да? Что-то я не припомню.
– Неужто?
– Да помню, помню, – весело замахал руками Аристов, как будто отбивался от назойливых мух. – Вот почему мы ненавидим всякую власть человека над человеком и стараемся всеми силами… положить ей конец. Все это когда-то мы цитировали в своей газете «Рабочий мир». Если честно, я сейчас просто в растерянности, потерял почву под ногами.
Снова разлив коньяк по рюмкам, он одним махом опорожнил свою и бросил в рот кусок лимона. Николай видел, что Моисей сильно пьян и откровенничает по поговорке, что у «трезвого на уме, то у пьяного на языке». Возможно, завтра он пожалеет об этом, но, видимо, большевики ему здорово чем-то досадили.
– Да, так вот, что я тебе еще хотел сказать. За моей спиной пошли слухи, что меня скоро переведут работать на Урал замом председателя Уральского областного экономического совета. Полина рассматривает это как повышение. Какое к черту повышение, если здесь я на своем месте, а там буду заниматься неизвестно чем?! Самое неприятное знаешь что: подчиненные давно знают об этом переводе, шушукаются за моей спиной, а начальство молчит… Все – подлые, никчемные люди…
Он снова взялся за бутылку.
– Может быть, хватит? – остановил его Николай.
– В кои-то веки мы с тобой встретились в домашней обстановке и не можем нормально посидеть.
– Лучше скажи: ты что-нибудь знаешь о таганцах и Туркине?
– Таганцев выпустят, раз обещали, только поморочат голову. Насчет Лени не знаю, его обвиняют в печатанье фальшивых денег, в этой же компании люди, совершившие теракт на горком партии в 19-м году.
– Там же находится Фанни Барон, жена моего близкого друга Арона Барона. Ни Леня, ни Фанни не могли заниматься печатаньем фальшивых денег. Все это сфабриковала сама ЧК.
– Меня в курсе этих дел не держат, все узнаю из отчетов на заседаниях Совнаркома. Скажу тебе откровенно: я пытался заступиться за Леню. Когда умерла твоя дочь, обращался за помощью к Бухарину, он разговаривал с Ягодой. Да, да, я Николая Ивановича тоже выручал по разным случаям. Мы все сначала были хорошими друзьями, казалось, делали одно большое дело, верили друг другу, помогали. И вдруг в одночасье все изменилось, как будто между нами пролегла огромная пропасть.
– Бухарин находится к Ленину в оппозиции.
– Мне намекнули, – продолжал свое Моисей, – что, если я буду за всех заступаться, мне самому нечего делать в партии и правительстве.
– Так ты пострадал из-за нас?
– Не хотел говорить тебе об этом. Леня – тоже лучшая часть моей жизни. Я обязан был за всех вас заступиться, пусть мне это дорого обойдется. Вот так-то, Коля. Теперь я, кажется, тебе все сказал, – он поднялся. – Я рад, что успел вам помочь, но попомни мое слово: ЧК тебя в покое не оставит. Лизу не зови, проводи меня потихоньку.
Постояли еще несколько минут на лестничной площадке. Моисей выкурил сигарету (Николай из-за легких теперь не курил), и тяжелой походкой стал спускаться вниз.
На стук двери из маленькой комнаты вышла Лиза.
– Моисей ушел, не попрощавшись?
– Вдруг заспешил. Ну что, Лизонька, – сказал Николай, обнимая ее, – начинаем новую жизнь. Завтра оформлю документы и начну работать.
– Днем занятия, по вечерам – работа. Еще экзамены. Володя прав, у тебя не хватит сил.
– Хватит. Когда человек на свободе, у него вырастают крылья. Столько времени я уже бездельничаю!
– Ты узнал у него о наших товарищах?
– Он сам толком ничего не знает. Сказал, что их обязательно выпустят, только поморочат голову. А его самого, наверное, скоро переведут на Урал.
– Жаль, мы только с Полиной наладили отношения и снова расставаться…
ГЛАВА 2
Первые два месяца после тюрьмы пролетели как один день. Днем Николай учился, вечером работал в статистическом бюро Наркомата труда – скучная однообразная работа, но платили аккуратно. Из его знакомых и родных, кроме Лизы, никто не понимал, зачем ему в 37 лет понадобилось снова сесть за книги, изнурять себя учебой и вечерней работой. Володя надеялся, что этот порыв, вызванный смертью дочери, скоро пройдет, медицинские предметы наскучат, а посещение анатомического театра и вскрытие трупов и вовсе отобьют охоту учиться дальше. Однако Николай не только не собирался отступать от своей цели, но еще надумал сдать экстерном экзамены за два курса и, хотя в медицинских институтах это не поощрялось: здесь особое внимание уделялось практическим занятиям, ректорат пошел ему навстречу, учитывая его возраст и усердие. Трудно, тяжело, но вполне для него осуществимо. Только бы власть не трогала.
А власть все больше свирепствовала, торопясь быстрей расправиться с неугодными ей элементами. В августе были расстреляны многие участники «Петроградской боевой организации Таганцева» – контрреволюционного заговора, в котором, как указывалось в информационном сообщении, замешаны потомственные дворяне, князья, графы, бароны, духовенство, ученые и творческая интеллигенция, в том числе известный поэт Николай Гумилев. Суда над ними не было. ЧК сама выносила приговоры и приводила их в исполнение.
Также поспешно она расправилась с девятью участниками группы «грабителей и фальшивомонетчиков», куда входили Фанни Барон, Леня Туркин и несколько человек из Московской организации анархистов подполья, совершивших взрыв в МГК партии осенью 1919 года.
Были сотни других мелких и крупных дел такого же рода по всей стране, не говоря о массовых расстрелах бунтовавших крестьян и партизан.
Оставшиеся на воле анархисты следили за тем, как развивались события вокруг Махно. Фрунзе никак не мог его поймать. Во время очередного нападения на Гуляй-поле большинство членов его штаба попали в плен, были отправлены в тюрьмы или расстреляны на месте. Ускользнув с небольшим отрядом, Нестор продолжал сражаться с ненавистной ему властью. Командование бросило на его разгром лучшие воинские части, многочисленную технику с пулеметами, бронепоездами и аэропланами. Две дивизии красных казаков под командованием Примакова и Котовского преследовали его по пятам, чтобы не дать возможности отдохнуть. Все было напрасно: Махно выходил из любых ловушек и тупиковых ситуаций.
В конце концов, Нестор сам, видя бессмысленность этих метаний, в августе 1921 года с близкими соратниками ушел в Румынию. На границе их арестовали румынские пограничники и отправили в лагерь для интернированных лиц. Несмотря на требования советской стороны «вернуть обратно уголовных преступников», «бандитов» и их «главаря», румынское правительство сообразило, что это – не простые беглецы, а важные для Советов люди, и удерживало их у себя. Это спасло Махно и его товарищей от возмездия большевиков.
17 сентября, наконец, отпустили домой таганских узников и после долгих издевательств (то они уезжают, и те пакуют чемоданы, то их оставляют в Москве еще на день, два, три, неделю, месяц) ЧК окончательно объявила день их отъезда за границу – 8 ноября. Накануне Сергей Маркус собрал у себя дома на прощальный ужин несколько человек из отъезжающих и близких друзей. Пришли Волин, Максимов с Ольгой и Татьяной, Алеша Федоров, Ефим Ярчук, Лидия Гогелия, супруги Даниленко с дочерью. Жена Маркуса Валентина напекла пирогов. Было весело, пили вино, произносили тосты за то, чтобы успешно добраться до места (Берлина) и хорошо там устроиться.
В 10 часов Максимов и Ярчук собрались уходить. Им нужно было встретиться с Эммой Голдман, чтобы еще раз поговорить о предстоящей работе за границей. Григорий поднял бокал.
– Друзья, – торжественно сказал он, – наполните бокалы. Хотя мы дали ЧК подписку не вести разговоры на политические темы, я хочу произнести тост за наше правое дело. За границей мы доведем до конца работу, прерванную большевиками. Мир должен узнать всю правду о тех, кто предал революцию. За наше будущее!
Все встали и дружно сдвинули бокалы.
– А я предлагаю выпить, – добавил Ярчук, – за всех наших погибших товарищей и тех, кто до сих пор томится в тюрьмах.
Снова подняли бокалы, не чокаясь, выпили и простояли минуту в молчании.
– До встречи на вокзале, – сказал Григорий друзьям, и, поблагодарив хозяев, они с Ярчуком ушли.
– Барона так и не выпустили, – сказал Волин сидящему рядом с ним Николаю. – А ведь обещали отправить вместе с нами за границу.
– Его теперь долго не выпустят, возможно, из-за расстрела Фанни. Зная его буйный характер, можно ожидать, что он захочет отомстить большевикам. И потом он так резко выступил на похоронах Кропоткина. Большевики такое не прощают… Ты, не знаешь, как у Петра дела с книгой о Махно?
– Никак. Два раза во время отступлений терялись и рукопись, и документы. Я сам обязательно напишу книгу о революции в России и подлости большевиков. Никогда не забуду, как последний раз встречался с Раковским по поводу нашего вопроса в Договоре о вольной республике. Он мне нагло смотрел в глаза и говорил, что в Москве все решено положительно, а ночью меня арестовали, бросили в какой-то подвал и унижали, как последнего бандита или грабителя. Ведь мы знали, знали, что им нельзя верить и все-таки полезли в их западню, – на его глазах выступили слезы. – Все, все подробно опишу… А ты покончил с литературой?
– Пока да. Хочу экстерном сдать экзамены в своем меде за несколько курсов, потом будет видно. У меня тоже во время ареста в Ромодане отобрали весь материал. Там были мои записи, много вырезок из газет, листовок и приказов, которые я собирал при всех властях…
– Со временем все начнут писать воспоминания, половину переврут, половину сочинят, а нам надо это сделать по свежим следам.
– За границей вы встретитесь с Махно. Рано или поздно его отпустят, он вам поможет с информацией, а то и сам что-нибудь напишет, он в этом деле здорово поднаторел. Ты сам, где думаешь жить?
– Сейчас надо успеть в Берлин на съезд анархистов, начать там работу для России, а потом, конечно, в Париж.
Из кухни доносился аппетитный запах теста и яблок. Жена Маркуса в третий раз за вечер ставила в духовку пироги. Лиза и Лидия Гогелия ей помогали. Маленькие дети Маркуса, возбудившись от большого количества людей, носились по квартире, дергая отца и гостей.
– А ты, Алеша, – обратился Волин к Федорову, – зря берешь с собой жену. У вас грудной ребенок, рискованно. Оставь их тут, потом выпишешь.
– Я же не один еду. Все вместе, как-нибудь справимся.
Николаю неожиданно пришла мысль передать с Волиным подарки для своего сына.
– Сева, – сказал он, пока Лизы не было рядом. – Ты помнишь, у меня в Париже были друзья: писатель Готье и Франсуа Бати?
– Помню. И еще кое-кого помню, – подмигнул он, намекая на Андри.
– Ты мог бы им передать посылку, я тебе завтра ее принесу на вокзал, пару детских книжек и игрушки.
– Андри?
– Кому получится.
– Не гарантирую, но постараюсь. Сергей, – обратился он к Маркусу, – ты скажи, когда нам уходить. А то мы можем сидеть до утра. И Валюша опять пироги печет. Валюша, напеки нам таких же в дорогу. Век не забудем.
– Дядя Сева, дядя Сева, – пристал к нему младший сын Маркуса Виталик, – давайте поиграем в догонялки. Вы меня не поймаете.
Улыбаясь, Сева отодвинул стул и приготовился бежать за мальчиком, но тут раздался резкий звонок, прозвучавший в этот поздний час как сигнал тревоги. У всех побледнели лица. Маркус так растерялся, что не мог пошевелиться, его жена подняла на руки маленькую дочку и тоже застыла, переводя испуганный взгляд с мужа на гостей.
– Не открывай, – сказал Сева Маркусу.
– Может быть, это вернулись Гриша и Ефим? – неуверенно предположила Ольга Максимова. – Увидели свет и решили к нам опять присоединиться.
Звонок повторился и то, как долго держали на нем палец, было ясно, что это не друзья, знавшие, что здесь маленькие дети, а незваные гости – ЧК.
К Маркусу вернулось самообладание. Велев всем женщинам и детям уйти в другую комнату, он направился к двери. В коридор ввалились двое чекистов и группа вооруженных красноармейцев с дворником-татарином Валимом, нерешительно топтавшимся у порога.
– Вы хозяин квартиры? – грубо спросил один из чекистов, видимо, старший.
– Я.
Он полез в карман и предъявил ему ордера на обыск и арест, подписанный зам. наркома внутренних дел Владимирским.
– В чем дело? У нас дружеское чаепитие.
– Мы не знаем, что у вас тут: чаепитие или собрание. Вы нарушили обязательство о том, что нельзя собираться вместе.
– Вы ошибаетесь, – сказал Алеша Федоров. – Мы пьем чай и едим пироги. Присоединяйтесь к нам.
Из другой комнаты вышли женщины, держа за руки детей.
– Федорчук, – приказал старший одному из солдат, – пройдись по комнатам и посмотри, нет ли там еще кого, и пошарь в письменном столе, а ты, Айвазян, всех перепиши. И выводите по одному в машину.
– А женщин и детей?
– Детей оставьте и с ними хозяйку квартиры, остальных тоже в машину.
Николай успел сунуть Валентине Маркус бумажку с телефоном Володи.
– Позвоните моему брату, он заберет Веру.
– Хорошо, что же теперь с вами будет?
– Надеюсь, утром отпустят, ведь завтра все уезжают.
Их вывели на улицу и усадили в крытый фургон. Проехали Садовую и площадь Старых Триумфальных ворот, переулками выехали на Новослободскую улицу. Знакомый путь в Бутырку.
– Вот и уехали за границу, – невесело пошутил Волин, чтобы поднять у друзей настроение, – я так и знал, что они устроят провокацию.
– Откуда они о нас узнали?
– Следили с первого дня или соседи донесли.
Николай обнял испуганную жену.
– Только прошу тебя, милая, не вступай с ними в споры, говори, что пришла со мной, а лучше молчи.
– Что теперь будет с Верочкой? Она еще не забыла арест в Ромодане.
– Завтра приедет Володя, заберет ее к себе. Нас скоро выпустят. Мы ничего не сделали.
В тюрьме их разделили. Женщин оставили на первом этаже, мужчин повели наверх по лестнице, знакомой Николаю дорогой.
Ярчук и Максимов вышли от Эммы Голдман в два часа ночи и, по предложению Григория, отправились ночевать к нему в Большой Чернышевский переулок (семья Ярчука, приехавшая из Петрограда, снимала номер в гостинице). Дома был один Игорь, он уже спал. Увидев, что Ольги, Татьяны и соседей до сих пор нет, друзья удивились. Оставив Ефима дома, Григорий пошел к Маркусам, жившим в начале Малого Никитского переулка. В окнах их квартиры на третьем этаже большого серого здания было темно. Решив, что мужчины куда-то тоже ушли, а женщины с детьми остались ночевать у Валентины, он вернулся домой.
Взволнованные предстоящим отъездом, друзья всю ночь проговорили и, чуть рассвело, отправились к Маркусам. Сосед с нижнего этажа, хромой сапожник Иван Груздев, ходивший в их клуб на лекции, приоткрыл окно и, поманив к себе Григория, сообщил ему о ночном визите чекистов в восьмую квартиру.
– Всех посадили в фургон и увезли.
– Из ЧК там кто-нибудь остался?
– Не знаю, не видел, с ними ходил дворник Валим, – сказал Иван, и, пугливо оглянувшись по сторонам, закрыл окно.
Ярчук остался внизу, чтобы в случае чего рассказать об аресте другим товарищам, Григорий поднялся наверх. Было еще рано и, боясь разбудить детей, он слегка нажал на кнопку звонка. В коридоре послышались торопливые шаги, испуганный женский голос спросил: «Кто там?»
– Валюша, это я, Максимов.
Во всех комнатах царил беспорядок, указывающий на то, что тут проходил обыск. Плачущая женщина рассказала ему о произволе, который учинили чекисты. Пришла Вера, дочь Даниленко.
– Дядя Гриша, – обрадовалась она ему, – маму и папу арестовали. Отведите меня домой.
– Нет, девочка, – обняла ее Валентина. – Я обещала папе позвонить твоему дяде, он заберет тебя к себе.
– Я хочу домой, пусть дядя Володя туда придет.
– Нет-нет, Верочка, я должна сделать все, как велел папа. Иди, пожалуйста, к детям.
– Что вы думаете предпринять? – обратилась она к Григорию.
– Пойдем в ВЧК. Внизу стоит Ярчук. Позовите его, а мне дайте бумагу и ручку, напишу протест Дзержинскому.
Злой, как собака, Григорий быстро составил текст, прочитал его Ярчуку, тот со всем согласился, и они направились в ВЧК на Лубянскую площадь. Приняв у них документ, дежурный чекист пробежал его глазами и унес на второй этаж. Вскоре оттуда спустился еще один чекист и объявил, что они нарушили договор, устроив на квартире политическую сходку.
– Какую сходку? – возмутился Максимов, – там было несколько отъезжающих товарищей и наши друзья, мы пили чай.
– Ну, это уж позвольте нам решать, что у вас там было, – невозмутимо ответил чекист. – Всех отъезжающих отпустим, с остальными будем разбираться. Они все сейчас в Бутырке.
– Это произвол, вы пользуетесь нашим положением и издеваетесь, как вам заблагорассудится.
– Прошу вас покинуть помещение, иначе мы примем соответствующие меры.
– Мерзавцы, гады, сволочи, – ругались они, выходя из здания советской тайной полиции.
Ярчук отправился к своим родным в гостиницу, Максимов – в Бутырку, встречать арестованных. Похоже ЧК не спешило их выпускать. Каждый час Григорий связывался с Ефимом по телефону-автомату. Они не знали, что делать дальше, и, когда нервы окончательно были на пределе, отъезжающих товарищей и Татьяну, сестру Ольги Максимовой, отпустили. Остальных (супругов Даниленко, Маркуса и Лидию Гогелию) оставили «до более тщательного изучения их преступления» – так заявил Волину конвоир, сопровождавший анархистов к выходу из тюрьмы. Все делалось с расчетом, чтобы у «таганцев» не было времени идти на Лубянку устраивать новый скандал. Шел девятый час вечера, в 24.00 отходил их поезд на Брест.
На вокзале начались новые приключения. Брестский поезд долго не отправляли. Ответственный за их отъезд представитель из ЧК Мишин без конца уходил куда-то звонить, говоря, что документы на анархистов еще не готовы. Из этого поезда их перевели в другой, петроградский. «Вас отправляют в Финляндию, – неожиданно заявил Мишин, – все документы в Петрограде». И по тому, как он отводил глаза в сторону, было ясно, что он лжет: большевики придумали какую-то очередную подлость.
– Может быть, никуда не ехать? – шепнул Максимов Волину.
– Посмотри на перрон, там полно этих сволочей. Наверняка по нашу душу: или отправят силой, или вернут в тюрьму. Мы ладно, а женщины с детьми, Федоровы с грудным младенцем. Я говорил Алеше, чтобы он оставил жену здесь с такой крохой.
– Давайте, прощайтесь, – приказал Мишин анархистам, окончательно измотанным неопределенностью положения.
Женщины заплакали. Татьяна повисла у сестры на шее. Братец пожал всем мужчинам руки. «Татьяна, – шепнул Григорий свояченице, – следи за братом, чтобы он не ходил в комнаты соседей, когда их нет, за ним это водится. Если вас вздумают выселять, иди к Ягоде, он мне обещал, что вас оставят в этой квартире. Впрочем, – он печально махнул рукой, – грош цена их обещаниям. Одним словом, держитесь все вместе и помогайте Лизе, пока Коля учится».
Валентина Маркус вынула из сумки большой сверток с пирогами.
– Вот, Сева, пирожки, как ты просил, с капустой и картошкой, – проговорила она сквозь слезы. – Думаю, больше вас не высадят.
– Пора, пора, товарищи. Поезд и так опаздывает, – торопили их Мишин и проводник, как будто они были виноваты в задержке поезда.
Выглянув в окно, Волин увидел, как группа людей в кожанках, стоявшая до этого около соседнего вагона, поднялась в тамбур, а Мишин, не оглядываясь, зашагал к вокзалу – доложить по телефону об их отъезде.
Пока шла вся это волокита, за окном затеплился рассвет. В серо-розовом тумане проплыли мимо вагона локомотивное депо, склады, четырехэтажный кирпичный дом, водонапорная башня.
– Ну, вот и все, – грустно произнес Сева. – В 902-м году, когда я бежал за границу, меня распирало от счастья, что я увижу Европу, а сейчас, как будто кусок мяса вырвали из сердца.
ГЛАВА 3
Лизу отпустили из тюрьмы через два дня, ничего не объяснив и не извинившись, как будто это был такой пустяк – арестовать и продержать человека в тюрьме не известно за что. Николая оставили под предлогом, что ВЧК проверяет поступившие сигналы о нем: мол, после освобождения из тюрьмы он занимался подпольной работой, встречался не только с анархистами, но и с преступниками другого рода. Это была возмутительная ложь, очередная провокация ВЧК. И на работе, и в университете он был крайне осторожен в своих высказываниях и выборе собеседников.
В тюрьме их с Маркусом разделили. В камере Николая было 30 человек: 18 уголовников, десять эсеров и два толстовца. Когда в камере много народу, то морально чувствуешь себя лучше, можно ни с кем не разговаривать. Твоя особа никого не интересует, если ты сам не проявишь инициативу или не вызовешь общий интерес, как это было в екатеринославской тюрьме. Уголовники, как обычно, вели себя нагло по отношению к политическим, не понимая, за что те борются.
Один товарищ, огромный, неуклюжий, с длинными, как у гориллы, руками, попытался заставить Николая два дня подряд убирать нужник и мыть всю камеру (грязь и все условия сейчас были намного хуже, чем в 20-м году). Николай молча выполнил все это в первый день, на второй не только отказался, но заставил старосту, безвольного эсера Крупенникова, составить список дежурств на целый месяц вперед. Список зачитали и вывесили рядом с раковиной. Все молча согласились. Один горилла возмутился. Усевшись против Николая и выпучив глаза, он закричал на всю камеру.
– Ты, что тут, самый умный диктовать свои порядки?
– Ты мне не тыкай, я свое отсидел и в царской тюрьме, и при Деникине, и тут, в Бутырках при большевиках провел полгода. Все здешние порядки знаю наизусть.
– Ты случайно не анархист, – спросил другой уголовник, присаживаясь к нему на нары и отталкивая плечом гориллу; который, несмотря на свои огромные размеры, видимо, не пользовался особым уважением.
– Хотя бы и так, а что?
– Да один тут до тебя сидел и больно красиво рассказывал, как они дома грабили и богатых дамочек в полюбовницы брали.
– Я знаю другое. Анархисты гибнут и умирают в тюрьмах и ссылках, чтобы другим людям хорошо жилось, – сказал Николай со злостью, и, не желая больше слушать всякую чушь про своих товарищей, забрался на верхние нары и повернулся лицом к стене. Не было сил заново привыкать к этой жизни, новым людям, страдать и переживать за близких. ВЧК ничто не остановит, ее дамоклов меч теперь постоянно будет висеть над ним.
Первые две недели Николая допрашивал один следователь, затем его передали другому: с приятным, добродушным лицом, располагающей улыбкой и чересчур деликатным обращением – не следователь, а душа-человек. Как-то он попросил конвоира принести им обоим чай с печеньем, усадил Николая за стол и, предложив почаевничать вместе с ним, стал рассказывать о том, как в Москве торжественно отметили четвертую годовщину Великого Октября.
– На праздник приехало много иностранных гостей, – говорил он увлеченно. – О чем это свидетельствует? О том, что Советская власть себя утвердила, ее признают во всем мире. Все, кто здесь побывал на конгрессах Профинтерна и Коминтерна, помещали в своих зарубежных газетах восторженные статьи о нашей стране (в этом месте Николай глубоко сглотнул, вспомнив Мишеля и Франсуа). Да что там говорить: из-за границы на родину возвращаются наши писатели-эмигранты, художники, ученые, музыканты. Они смогли убедиться в большой разнице между старой и новой Россией.
– Да, – повторил он с досадой, видя, что Николай не реагирует на его красноречие. – Да и ваши товарищи-анархисты один за другим признают советскую власть и публикуют в газетах открытые письма с призывом последовать их примеру, вступить в коммунистическую партию. Могу перечислить фамилии, да вы, наверное, и сами их хорошо знаете. Они теперь занимают высокие посты, приносят пользу своему народу и стараются забыть свое прошлое.
Следователь подлил ему в бокал еще кипятку и заварки, подложил печенья.
– Не будем играть в прятки, Николай Ильич. Думаю, вы догадались, о чем идет речь: мы предлагаем вам написать такое же заявление для центральной прессы, признать в нем советскую власть как единственную народную победившую власть, обязаться вступить в ряды ВКП(б) и призвать к этому всех ваших товарищей. Вы теперь учитесь на врача, можете стать главным врачом поликлиники или больницы, без партийного билета путь к этому закрыт. Можете сейчас не отвечать, подумайте на досуге. Нам спешить некуда. Работа не волк, в лес не убежит, – прибавил он, улыбаясь, чем напомнил ему следователя в деникинской разведке, который сначала тоже мило улыбался, а потом его чуть не изувечил.
– А если я откажусь? – Николай с отвращением отодвинул свой бокал и тарелку с печеньем.
– Мы насильно никого не заставляем, это глубоко добровольное дело. У вас много времени, чтобы все обдумать: и год, и два, и три. Следствие только началось.
– Ну, и подлая же ваша организация, придумываете мерзости хуже всякой казни.
– Ну, что вы! Мы дарим вам жизнь, а признание, вот оно готово, – он пододвинул к Николаю написанный от руки текст, – поставьте вашу подпись и вы – на свободе.
– Вы от меня этого не дождетесь.
– Если вам тут нравится сидеть, сидите.
– Что тебе там впаривают? – спросил Николая его сосед слева, эсер Исаев, когда он вернулся в камеру.
– Сам не пойму. Только что отпустили из тюрьмы, все уже вроде выяснили, а теперь пошло по новой. Предложили подписать покаянное письмо.
– Значит, ты для них крупная птица. Такое не всем предлагают.
– Все крупные давно расстреляны.
– Да нет, видать, ты им нужен. Будут давить на психику. Одного тут нашего эсера тоже давили. Это у них такой метод. Посиди, подумай, а потом опять давят…
– Где же теперь этот эсер?
– Пока сидел, навесили на него три дела, и… расстреляли.
Николай посмотрел на него с подозрением. Ему показалось, что этот товарищ еле сдерживает улыбку. «Неужели специально тут посажен, чтобы на меня воздействовать? – подумал он. – Придумал какую-то крупную птицу. На кой черт я им вообще сдался. Учусь, работаю, и Аристова не имею право подводить: сиди и не высовывайся. Один раз попал в компанию близких друзей, так сразу загремел сюда».
В тот же день к Николаю подошел уголовник Воронин («ворона», как его тут звали), тот, что в первый день завел с ним разговор об анархистах, с просьбой объяснить, что анархисты хотят и почему их так не любят большевики. Николай без всякого энтузиазма стал ему объяснять. Исаев сидел рядом и тоже внимательно слушал. Когда он на несколько минут отошел по нужде, Воронин шепнул ему на ухо:
— Остерегайтесь Исаева, он – провокатор. Говорит, что воевал у Колчака, а у самого руки белые и холеные, видать, что никогда оружия не держал. Все тут вынюхивает и доносит Дукису, а, может быть, и правда воевал, так теперь хочет выслужиться перед начальством, спасти свою шкуру. В любом случае будьте осторожны.
Николай поблагодарил его, но и сам Воронин, говоривший довольно грамотно и интересовавшийся анархизмом, что было редкостью среди уголовников, показался ему тоже подозрительным. Вот это было хуже всего: быть все время начеку и ждать подвоха со стороны сокамерников.
Свидания с родными не разрешали. Условия были намного хуже, чем в 20-м году. Только после третьего обращения к Ягоде, Лизе разрешили прийти на 15 минут.
– Я разговаривала со следователем, – сказала она возмущенно, – говорит, что ты нарушил данное слово под поручительство Аристова, распространял запрещенные книги по библиотекам и был организатором политического собрания – того прощального ужина у Маркусов. Врут без зазрения совести.
– А когда она у них была? Предлагают мне подписать письмо о том, что я признаю власть большевиков и готов вступить в их партию.
– Они всех сейчас уговаривают. Гейцман, Брыкалов и Виноградов готовят Манифест анархистов-коммунистов, своего рода признание политики большевиков, но в завуалированной форме, вроде признаем, но от своих взглядов и работы не отказываемся. Я читала Манифест, мне он понравился.
– Вряд ли большевики его опубликуют.
– Они вчерне с ним ознакомились и одобрили.
– Это – та же капитуляция.
– Нет, главный смысл все-таки остался. Я тоже его подпишу, может быть, тогда они отстанут от тебя. Обещали опубликовать в «Известиях».
– Ради Бога, умоляю тебя, ничего не подписывай и не привлекай к себе лишнего внимания. Они мастера на всякие подлости.
Пока Николай был дома, Лиза настойчиво стремилась к своей цели: заиметь ребенка. Однако проходило время, и – никаких результатов. С грустью вспоминала она, как много лет назад в Екатеринославе и Женеве, с риском для жизни, избавлялась от ненужной тогда для нее беременности; теперь она готова была просить всех святых помочь ей в этом деле. Володя ее успокаивал: они оба много пережили, их организмы ослабли, должно пройти достаточно времени, чтобы восстановились иммунитет и нервная система. Даже хорошо, что ничего не получается, здоровье ребенка будет зависеть от их физического состояния.
В очередной раз месячные у нее должны были быть в начале ноября, как раз, когда их забрали в тюрьму. За всеми треволнениями она совсем забыла о них и спохватилась, когда прошло больше двух недель. Месячных не было, однако она не спешила с выводами: арест и тюрьма ни для кого еще не проходят даром. Не появились они и в следующем месяце. Обрадованная, она пошла на прием к платному профессору-гинекологу, открывшему недавно частный кабинет в соседнем с ними доме в Большом Чернышевском переулке.
– Сколько вам лет? – спросил седовласый профессор, аккуратно заполняя ее карточку красивым каллиграфическим почерком.
– Тридцать два.
– Многовато для роженицы. А мужу?
Лиза не выдержала:
– Доктор, скорей посмотрите: есть у меня беременность или нет.
Платному доктору, да еще профессору, бравшему за свое звание приличную цену, полагалось оправдывать деньги пациентов. Уложив Лизу на кушетку, он долго прощупывал ее груди, старательно мял живот в области печени, заставил раскрыть рот и произнести «А-а-а!». Наконец, когда тянуть дальше было некуда, посадил ее в кресло и после осмотра торжественно произнес,
– Поздравляю, вы беременны, приблизительно восемь недель!
Быстро одевшись, Лиза бросилась его целовать.
– Доктор, вы не представляете, как меня обрадовали.
– Помните, что вы уже не молодая роженица.
– Помню, доктор, помню.
На радостях она зашла в Филипповскую булочную, накупила булочек и пирожных, решив такое долгожданное событие отметить с соседями. При виде сладостей, которыми их обычно баловал дядя Володя, Вера радостно захлопала в ладоши.
– Мамочка, у тебя произошло что-то хорошее на работе?
– Произошло, только не на работе. Скоро у тебя появится братик или сестричка.
– И у тебя опять будет большой живот?
– Фи, Верочка, не напоминай мне об этом. До этого еще далеко. Вот помогать нам с тобой будет некому. Марфа и бабушка далеко, а папу неизвестно когда выпустят.
– Я буду помогать, я уже большая.
Улыбнувшись на ее слова, Лиза тяжело вздохнула, но не такое сегодня было настроение, чтобы расстраиваться. Ее переполняло счастье и потянуло к роялю. После того, как она первый раз подошла к нему по просьбе Аристова, музыка вновь стала для нее необходимой. Как она могла так долго обходиться без нее?
Мощные звуки второго концерта Рахманинова нарушили тишину комнаты. Пальцы быстро забегали по клавишам, иногда попадая не туда, куда нужно. Лиза недовольно хмурилась, сознавая, что кое-что успела подзабыть и ошибается. Играла она недолго. Увы! Любимый композитор уже не вдохновил ее, как в былые годы, наоборот, ей стало грустно. Отчего? Оттого ли, что музыка навеяла воспоминания о прошлом, или оттого, что этот чудесный концерт не вписывался в реалии нынешней жизни?
Опустив крышку, она провела рукой по пыльной поверхности (все эти дни некогда было убираться) и вывела число: 12 июля.
– Мамочка, зачем ты написала это число? – спросила Вера, с удовольствием слушавшая музыку.
– Через семь месяцев появится наш малыш, возможно, в этот день, а может быть и в другой, – добавила она, вспомнив, как долго ходила с Олечкой вопреки всем подсчетам врачей и Елены Ивановны.
– Пожалуйста, еще сыграй и спой, – попросила Вера.
Путая слова, Лиза спела два своих когда-то самых любимых романса: «День ли царит» и «Ночь светла» и, недовольная собой, что стала все забывать, закрыла крышку рояля.
Еле-еле дождавшись утра, она поехала в тюрьму и за деньги упросила конвоира, дежурившего при входе, передать в 18-ю камеру записку Даниленко. Николай получил ее после завтрака и очень удивился. «Коленька, – писала Лиза. – Не могла дождаться приемного дня. У нас радостное событие: я беременна. И уже сейчас знаю, что будет девочка. Мы ее назовем Леночкой в честь твоей мамы, которую я очень люблю, как и всю вашу семью. Как бы мне хотелось, чтобы они все сюда приехали и были рядом: не для помощи, а как близкие, родные люди. Надеюсь, тебя скоро выпустят, ты будешь рядом с нами и сможешь видеть каждый этап развития нашей крошки как отец и домашний доктор. Не представляешь, как я счастлива. У меня много планов на будущее. После того, как ты окончишь университет, я тоже поступлю куда-нибудь учиться на педагогическое отделение и рожу еще, обязательно мальчика. Хочется забыть все плохое, жить полнокровной жизнью, любить. Я люблю тебя и наших детей. Целуем тебя все трое. Лиза».
Восторг и радость так и лились из ее письма. Николая оно расстроило. Он по-прежнему тяжело переживал смерть Оли и не скоро еще сможет принять и полюбить другого ребенка. Как она могла так быстро утешиться и витать от счастья в облаках, не понимая, что это оскорбляет память умершей дочери. И когда Лизе разрешили свидание, и она пришла к нему радостная и счастливая, Николай сдержанно сказал ей, что лично он не готов к тому, чтобы заводить нового ребенка.
– Глупости, нельзя жить прошлым и заниматься самоистязанием. Я не меньше тебя переживаю Олечкину смерть, но хочу, чтобы у нас были еще дети: эта девочка, мальчик. Они принесут нам счастье. Ты окончишь медфак, я поступлю на педагогический факультет. Буду заниматься музыкой, пением. Я на днях стала играть Рахманинова и поняла, что он меня не вдохновляет, как раньше. Еще немного, и мы разучимся чувствовать, любить, видеть прекрасное. А жизнь проходит, – сказала она с тоской, напомнив ему чеховских героинь из «Трех сестер».
– Не забывай, что я нахожусь в тюрьме и не скоро отсюда вырвусь, а ты будешь одна тянуть эту тяжелую лямку с двумя детьми. И неизвестно, что еще может выкинуть ВЧК.
Лиза сникла. Свет в ее глазах потух, по щеке поползли слезы.
– Я не хочу больше страдать.
– Ты, наверное, надеешься, что я подпишу это проклятое покаянное письмо?
– Ничего подобного, я вообще забыла о нем. Просто мне хочется обыкновенного женского счастья. Мы должны забыть прошлое, жить настоящим.
– Тебе легко говорить, ты – на свободе, а я – в клетке.
– Ты становишься грубым, злым, невыносимым, – сказала она с досадой. – Как будто чужой человек.
– Лизонька, прости меня, – спохватился Николай. – Я сам не знаю, что говорю. Что-то со мной происходит, но я не имею право вас мучить, и я не так безнадежен, как тут разнылся. Володя передал мне учебники, анатомические атласы. Я много занимаюсь и буду просить ВЧК, чтобы меня отпустили в феврале на сессию. Ты права, прошлое затягивает в бездну. Это счастье, что у нас будет еще ребенок. Татьяна и Игорь тебе помогут, и Володя с Леной. Ты не одна. Я только расстроил тебя своими глупыми словами. Здесь у всех непреходящая хандра.
– Представь себе, – обрадовалась Лиза такой неожиданной переменой в настроении мужа и, стараясь его развеселить, – когда я сказала Верочке о ребенке, она первым делом спросила: «У тебя опять будет большой живот?» А ведь верно. Будет живот, и ей придется одевать мне ботинки и мыть голову. И я стану некрасивой.
– Не напрашивайся на комплименты. В прошлый раз с тобой не могла сравниться ни одна мадонна Боттичелли.
Весной Маркусу (Сергея давно отпустили без всяких покаянных писем) передали письмо из Штеттина от Григория Максимова. Оказывается, тогда, в ноябре в Финляндию они не уехали, а пробыли в Петрограде еще несколько мучительных недель. Каждую ночь их отвозили на вокзал, чтобы куда-то отправить, и без всяких объяснений возвращали обратно в гостиницу, часто пешком, с детьми и чемоданами в руках. Под Новый год снова привезли в Москву и поместили в лагерь для военнопленных немцев и чехов. Зачем? Почему? Никто ничего не объяснял, и только, когда выдали фальшивые паспорта на чешских граждан, стало ясно: их высылали как военнопленных вместе с очередной партией чехов и немцев. ВЧК боялось, что за границей их примут за большевиков и вернут в Россию. Ехали в грязной, холодной теплушке. Все начали болеть. Грудной ребенок Федоровых умер на территории Латвии; его трупик оставили в станционном морге. В Штеттине их снова поместили в тюрьму, долго там держали и, наконец, по требованию немецких товарищей выпустили под надзор полиции. Теперь они на свободе, надеются вскоре попасть в Берлин и забыть все ужасы, пережитые на родине.
В письме была приписка для Николая о том, что Мишель Штейнер, Франсуа Бати и журналисты из Лондона – Джейс Уилсон и Герберт Браун, после окончания Московского конгресса Профинтерна были задержаны ЧК и отправлены в Мурманск, куда за ними, якобы, должен был прийти французский военный линкор. Линкор, конечно, не пришел. Местное ЧК держало их в полной изоляции, не разрешая ни с кем связываться. Приближалась зима. На последние деньги им удалось тайно нанять рыбацкое судно с командой и отправиться в Швецию. Недалеко от Вардё во время сильного шторма судно потерпело крушение. Из всех людей спаслись только два члена экипажа. От них-то и стало известно о судьбе иностранных журналистов.
Известие о гибели Мишеля и Франсуа так потрясло Николая, что он несколько дней был сам не свой, неподвижно лежал на нарах и смотрел в потолок. Перед глазами стояло лицо Франсуа, уезжавшего на войну с германцами в красном шарфе его отца-коммунара и распевавшего во весь голос Марсельезу:
Вперёд, Отчизны сыны вы,
Час славы вашей настал!
Против нас вновь тирания
Водрузила кровавый штандарт.
И тирания его настигла, только не на полях сражения с иноземным врагом, а в Советской России. Зачем они все сюда приезжали? Хорошо, если Андри успела уехать домой раньше их, как она собиралась. А если и с ней что-нибудь случилось, что тогда будет с их детьми? Жанетт совершенно не приспособлена к жизненным трудностям.
На Николая опять напала хандра, усиливающаяся тем, что Лиза беременна и должна будет рожать без него. На зимнюю сессию его не отпустили. Его и нескольких анархистов, арестованных позже, продолжали держать, ничего не объясняя и не предъявляя никаких обвинений, но никого из них не заставляли подписывать покаянные письма. Николай связывал это с тем, что он работал в «Набате» и много писал антибольшевистских статей в московских и харьковских газетах. Удивительно, что его вообще не расстреляли или не отправили куда-нибудь в Сибирь или на Соловки, где большевики организовали лагерь особого назначения, о котором ходили страшные слухи.
Удрученное состояние Даниленко обрадовало следователя. Он продолжал упрямо нажимать на то, что Николаю надо подписать ничего не стоящую бумажку. Этот «сладкоголосый» ублюдок терзал его сердце, намекая на то, что его беременная жена находится дома одна, без необходимой помощи, тогда как достаточно одного росчерка пера, и он окажется дома, сам отвезет ее в роддом, примет из рук медсестер новорожденного ребенка.
Володя к нему приходил редко. Он был занят работой, лекциями в мединститутах и частыми поездками на консультации к Ленину куда-то в усадьбу Горки под Москвой. Состояние вождя было тяжелое. Врачи беседовали с его окружением, которое Володе не нравилось. Ему вообще все не нравилось в этом новом обществе: и то, что его вызывают на консультации к самому Ленину в то время, как одного его брата расстреляли неизвестно за что, а другой сидит в тюрьме, и то, что отняли у них в Ромнах почти весь дом вместе с летней кухней и садом. Даже в больнице стала нездоровая обстановка: все боялись доносов и арестов.
Вскоре его перестали приглашать к Ленину. Не интересуясь политикой, он не знал, что наверху, в руководстве идет страшная борьба за власть. Ему всегда казалось, что самая сильная личность там Троцкий, человек решительный, волевой, оказывающий сильное влияние на Ленина и все ЦК. Однако кто-то ему сказал, что он глубоко ошибается: все более влиятельной фигурой там становился маленький рыжий грузин Сталин. В апреле его избрали Генсеком партии, он окружил себя нужными людьми и постепенно забирает власть в свои руки. Именно он теперь опекает вождя и собирает консилиумы врачей, которые лично ему докладывают о состоянии больного.
В один прекрасный день все врачи, курирующие Ленина, были заменены другими. Главным лечащим врачом стал немецкий профессор Отфрид Ферстер, на консультации часто приглашали и Бехтерева. Володя был рад, что его избавили от поездок в Горки. Рад он был и за Бехтерева: советская власть его обласкала и разрешила открыть в Ленинграде новый Институт по изучению мозга и психической деятельности. Он стал его директором. Болезнь Ленина как раз входила в круг научных интересов Владимира Михайловича. Вождю он уже не поможет, но получит полезные научные наблюдения.
В Москве проездом оказался Григорий Даниленко с женой Светланой. Молодому геологу надоело вести кочевой образ жизни, он возвращался на родную Украину, получив, по его просьбе, от Наркомата земледелия направление в Харьков. Переписываясь только с мамой, он, как и она, не знал о смерти Вани и Миши и маленькой дочери Николая, чему был страшно удивлен и огорчен. Когда он навестил Колю в тюрьме, тот попросил их с женой побыть в Москве, пока Лиза не родит, помочь ей первое время с ребенком. «Конечно, поможем, – охотно согласился Гриша, – только недолго, а то у нас не останется времени на Ромны».
Так и получилось, что Грише и его жене пришлось отвозить Лизу в роддом на Арбате. На следующий день утром она родила дочь Елену, которую она сама и все близкие стали называть Аленой.
В день выписки из больницы Лизе было грустно. Вспомнился тот день, когда родилась Оля, и Коля с Марфой приехали на санях в больницу, занятую гайдамаками. По дороге домой им попалась сумасшедшая София, грозящая кому-то огненной гееной. Марфа и Елена Ивановна расстроились из-за этого случая, боясь, что женщина накликала на них беду. Лиза не верила в приметы, но беда случилась.
Лиза всплакнула, слезы упали на одеяло и лицо спящей девочки. Она встряхнула головой, отгоняя страшные воспоминания. Ей нельзя расслабляться, она должна быть сильной, мужественной, все выдержать и поддерживать мужа, которому в тюрьме во много раз тяжелей, чем ей здесь, на воле. У нее были замечательные родные и друзья.
Встречать ее пришло много народу: Володя и Гриша с женами, племянники (дети Володи), Вера, соседи по квартире, Маркусы. Приехали даже две Лизины сослуживицы с подарками и материальной помощью, выделенной профкомом издательства.
Первый месяц с ней были Гриша и Светлана. Когда они уехали, к ней стала приезжать Елена с обедами от тети Паши (так Лиза их называла по аналогии с обедами от Зинаиды). По вечерам ей помогали соседи, да и Вера могла уже сбегать в магазин или побыть на улице с коляской. Эта умная, но ленивая на учебу девочка рада была возиться с сестренкой, лишь бы не готовить домашние задания.
Иногда по воскресеньям приходил дядя Володя один или с мальчиками и еще более строгим голосом, чем папа, требовал у Веры показать тетради и рассказать урок из французской хрестоматии. «Мне стыдно за тебя», – говорил он Вере в присутствии ее двоюродных братьев, увидев, что задачи по арифметике не решены, а урок не выучен, и заставлял старшего сына Сашу заниматься с сестрой. Занимались они недолго. Скоро все садились за стол, и для детей выставляли блюдо с пирожными.
– Как там Ляля? – спросил как-то Володя Лизу, это было уже незадолго перед Новым годом. – Я давно ее не вижу у вас.
Их встречи прекратились еще весной, когда Ляля позвонила ему на работу и попросила временно не звонить и не приходить в Александровский сад. «Так надо, – жестко сказала она, что на нее было не похоже, – потом все расскажу».
– Не знаю, я сама тревожусь за нее. Как-то они у нас были с Андрюшей (Лиза так и не знала об отцовстве Володи). Мне она показалась расстроенной. На днях разговаривала с мамой. У нее тоже был какой-то странный голос. Ляля к телефону не подошла. Я попросила Ядвигу Болеславовну, чтобы она мне перезвонила или зашла к нам. Пока не звонила и не приходила.
Володя перевел разговор на приближающиеся зимние каникулы, предложив отправить Веру вместе с мальчиками в детский санаторий.
– Я не поеду, – заупрямилась Вера. – Мне дома хорошо.
– Ну и напрасно. Шурик и Павлик там были прошлой зимой, им очень понравилось.
– Не хочу, – упрямо твердила Вера. – Мама, я останусь с тобой.
– Дядя Володя хочет, как лучше.
– Пожалуйста, оставайся, – сказал дядя Володя, с виду строгий, на самом деле очень добрый. – Тебя никто не заставляет ехать силой.
Уходя, он попросил Лизу перезвонить ему, если проявится Ляля.
– Она все такая же беззащитная, – сказал он, смущенно улыбаясь. – Кроме нас с тобой, о ней некому позаботиться.
– Мороз спадет, и я приглашу ее погулять в Александровский сад.
Когда маленькой дочери исполнилось восемь месяцев, Лиза отважилась принести ее на свидание с мужем. Увидев малышку в белой шубке (зашитой внизу и на рукавах, так что получился своего рода конверт), белой шерстяной шапочке с розовым бантиком, Николай забыл о своих прежних возражениях против другого ребенка и от умиления прослезился.
– Какая она большая, – сказал он, вытирая слезы. – Поцелуй ее за меня тысячу раз.
– Она – умница, уже хорошо сидит и пытается встать на ножки. Я ей даю твою фотокарточку. Она засовывает ее в рот. Мы не дождемся, когда ты отсюда выйдешь.
– Я сам об этом только и думаю. Написал еще одно прошение Ягоде, хочу сдать экзамены экстерном, раз меня на сессии не отпускают, иначе могут выгнать из университета. И с работы, наверное, выгнали. Аристов, где сейчас, не знаешь?
– На Украине, нарком труда…
– Опять пошел на повышение. К нему больше не обращайся, не надо…
– Поздно предупредил, я уже обратилась, он обещал сделать все, что сможет. И Полина действует, ходила на прием к Луначарскому, она его лично знает по Парижу. Тот сказал, что к нему с такими просьбами каждый день обращаются тысячи людей. Да он сейчас редко бывает в Москве. Ленин всех командировал на Украину.
Несмотря на шум в помещении, малышка мирно спала, давая им возможность поговорить. Время от времени Николай просил приподнять ее и показать личико. Девочка, как и Оля, была похожа на Лизу: такой же овал лица, длинные, загнутые кверху ресницы, кудрявые темные волосики. Он закрывал глаза, чтобы отогнать от себя горькие воспоминания.
– На днях звонил Петр Остапенко, – сказала Лиза, догадываясь о его состоянии и стараясь отвлечь от тяжелых мыслей. – Он уехал из Москвы, просил передать, что чашу Грааля разбили… Я ничего не поняла. Это – рыцарская легенда, связанная со святым Граалем. О нем рассказывает Вагнер в «Лоэнгрине».
– Все это имеет отношение к масонам и тамплиерам. Орден тамплиеров до сих пор существует, Карелин в Париже состоял в их ложе и продолжает здесь этим заниматься. Петро вошел в этот круг людей. Видимо, ГПУ (так теперь называлось ЧК в РСФСР) их разоблачило.
– Сам Карелин жив и невредим, заседает во ВЦИК.
– Да ну его. Лучше скажи, как там Верочка? Старайся ей больше уделять внимания. Она давно растет без отца.
– Куда уж больше? Володя ее балует, Лена водила их с мальчиками в цирк и театр. Ей стали платить хорошую пенсию за Диму, раз по его просьбе она носит его фамилию – героя революции; предложили учиться в Кремлевской школе.
– Вот это интересно. Я в тюрьме, а они мою семью обсыпают почестями. Я бы им особенно не доверял. Пенсию клади Вере на книжку.
– Потом, когда ты вернешься из тюрьмы и начнешь работать, сейчас она нам самим нужна. Маркус достал где-то деньги, наверное, обращался к Пешковой. По просьбе Екатерины Павловны я выступала на благотворительном концерте для ее Общества политкаторжан. Жена Кропоткина тоже просит меня устроить концерт в помощь арестованным анархистам. Я так рада, что могу делать что-то полезное.
– И когда ты все успеваешь? Умоляю тебя, только детей не таскай по общественным местам, береги их, и Аленушку сюда больше не приноси. Здесь одна зараза.
ЧАСТЬ СЕМНАДЦАТАЯ
ГПУ БЕСЧИНСТВУЕТ
ГЛАВА 1
В очередной раз агент ГПУ Петр сказал Назаровой, что руководство довольно ее работой (вот как: то ругали, а теперь, оказывается, довольны!?), и предложил ей перейти в штат их ведомства, бросив учительство.
– Нет, нет, – испуганно воскликнула Евгения Яковлевна, – я не могу. Мое место в школе.
– Нам нужны люди. И не забывайте о своем прошлом и своих белогвардейцах.
– Оставьте меня в покое. Я свое отработала. У меня нервы не в порядке.
– Они сейчас у всех не в порядке. – Петр вынул из кармана конверт. – Пока выполните несложное поручение. Оставьте в комнате Хазиной вот этот конверт, в таком месте, чтобы ни она сама, ни ее мать или сын его не обнаружили: где-нибудь за шкафом или под кроватью. Наши люди найдут его во время обыска. А в этом конверте, – Петр вытащил другой конверт, – ваше законное вознаграждение. Генрих Григорьевич (Ягода) вами доволен. Надеюсь, оно заставит вас принять наше предложение о работе в ГПУ. Ваш статус повысится. За получением задания вы будете приходить в другое место.
Назарова дрожащими руками взяла конверты, спрятала их в сумочку. От страха она ничего не соображала. Кто-то другой выполнял ее действия.
– Если вы почему-либо не сделаете то, о чем мы вас просим, это сделают другие, но вы об этом сильно пожалеете. Подумайте об этом.
Приподняв шляпу, он мило улыбнулся и растворился в толпе прохожих. «Сущий дьявол, предлагает одну сделку за другой, а теперь хочет получить мою душу». Проводив его презрительным взглядом, она зашла в магазин, купила хлеб, две булочки, бутылку молока, и, уложив все в сетку, постояла у окна, высматривая, нет ли там кого из ГПУ, чтобы теперь следить за ней самой. Из магазина направилась вверх по Никитской и через Калашный переулок вышла к Арбату. Здесь было шумно, звенели трамваи, кричали извозчики, лотошники, на перекрестках милиционеры, наводя порядок, оглушительно свистели и махали жезлами, как дирижеры в оркестре. Подальше, подальше от этой суеты и толпы.
Вот ее любимый Староконюшенный переулок, где родился и вырос муж. В красивом сером здании с колоннами раньше жили одни господа, теперь тут коммунальные квартиры для пролетариата. И в доходном доме Донского с атлантами обитает одна чернь. А в этом особняке с колоннами (доме Миндовского) раньше находилось Московское торгово-строительное акционерное общество, которое посещали солидные люди, а ныне туда и обратно снуют какие-то подозрительные личности.
Долго Евгения Яковлевна бродила по арбатским переулкам, раздумывая, что делать дальше. Подбросить письмо Хазиным она не могла. И так, шпионя за ними, она нанесла этим милым людям достаточно вреда. Теперь ЧК-ГПУ задумало с ее помощью осуществить новое злодеяние. Подлые, низкие душонки, уверенные, что могут сломить ее, дочь Почетного гражданина Москвы и жену русского офицера, своими угрозами.
Когда-то в своих записях к мужу она высказала мысль уехать в деревню Чоботово, где-то под Тотьмой; это далеко на севере, в самой глуши Вологодской губернии, там в домах, как рассказывала ее няня, по вечерам зажигают лучины, зимой под окнами воют волки. Но живые волки лучше, чем те, что ходят с винтовками на черных ремнях. «Злоба, грустная злоба кипит в груди…, – вспомнила она строки из поэмы «Двенадцать» Блока, – черная злоба, святая злоба… Товарищ! Гляди в оба!»
Было уже довольно поздно, когда Евгения Яковлевна вышла на Пречистинский бульвар к памятнику Гоголя. Великий писатель, не желая видеть, что происходит вокруг, сидел, опустив голову, погружённый в скорбные размышления. Как и она, писатель был одинок в этом чужом для него мире.
Стоявшие поодаль два милиционера подозрительно оглядели пожилую женщину с ног до головы, удивляясь, что она тут делает в такой час с продуктами в сетке, но ничего не сказали. Она перешла на Никитский бульвар, и так шла все дальше и дальше по ночной Москве, переходя с одного занесенного снегом бульвара на другой, пока не оказалась на Каланчевской площади у Северного вокзала.
В густой толпе пассажиров легко затеряться, да и вряд ли за ней могли следить: она весь вечер и всю ночь колесила по городу. Поезда в сторону Вологды – Архангельска ходили редко. Только в четыре часа следующего дня она села в спальный вагон пассажирского поезда. Сначала он шел быстро, после Александрова сбавил ход и еле-еле тащился, как будто у него иссякли силы. За окном валил снег, свистел ветер, мелькали черные леса и белые мертвые равнины полей. Казалось, здесь нет ни людей, ни деревень, ни городов. Только одинокие заброшенные станции, где закутанные в теплые клетчатые платки бабы, сильно акая, выманивали у пассажиров вещи за горячую картошку или мороженую клюкву.
Соседи смотрели на нее с любопытством: Евгения Яковлевна ехала налегке, без чемодана, с дамской сумочкой и сеткой, в которой лежали продукты. Проводник предлагал пассажирам матрасы и комплекты белья. У нее оставались еще деньги, в том конверте из ГПУ. Она взяла постельные принадлежности, заказала два стакана чая и без всякого удовольствия съела весь свой хлеб и булки, успевшие зачерстветь. Затем завернулась в тонкое одеяло с сырым пододеяльником, пахнувшим дегтярным мылом, и быстро заснула. Ночью ее разбудил щелчок в двери.
– Кто там? – спросил сосед с верхней полки, свесив вниз голову со спутанной во сне бородой.
– Спите, товарищ, спите, – сказал тихо мужской вкрадчивый голос и прошептал ей на ухо, – Евгения Яковлевна, пройдемте с нами на минутку в коридор.
– Зачем? – испуганно вскрикнула она
– Всего на одну минутку, – настойчиво повторил голос, и железные пальцы обхватили ее запястье.
С трудом втиснув в ботинки распухшие от вчерашней ходьбы ноги, она натянула пальто и вышла в коридор. Сзади тихо закрылась дверь, щелкнул замок.
В коридоре стояли еще двое в черных пальто и мерлушковых пирожках. Ей велели идти вперед, к тамбуру. Сопротивляться и звать на помощь бесполезно: никто не осмелится выйти из своего купе. Из туалета высунулась чья-то голова, но, увидев странную процессию, быстро исчезла. В тамбуре она вдруг осознала, что ее ждет, стала отчаянно кричать и вырываться из крепких рук трех здоровых мужчин.
Один из них дернул за ручку входную дверь: она легко поддалась: была заранее открыта. Лицо обожгло ледяным ветром. Мимо проносились деревья и столбы, вспыхивали и растворялись в темноте паровозные искры. Из рваных туч неожиданно вырвалась луна, осветила оскаленные лица ее мучителей и испуганно скрылась.
Ее толкали и толкали вниз, но она упорно цеплялась за все, что попадалось под руки. Тогда ее со всей силой ударили по голове, она потеряла сознание, и обмякшее тело полетело вниз. В этот момент поезд проходил через мост, под ним раскинулось белое поле замерзшей реки. Через несколько секунд оттуда донесся глухой удар, едва различимый среди грохота колес.
– Туда ей и дорога, – сказал тот, у которого еще недавно был тихий, вкрадчивый голос, на самом деле грубый и прокуренный, и вытащил из-за пазухи бутылку водки. Все сделали по нескольку обжигающих глотков и, довольные успешно выполненным заданием, вернулись в вагон.
ГЛАВА 2
Самое любимое время у Лизы после десяти часов вечера, когда, закончив домашние дела, можно забраться с ногами в кресло и почитать книгу. Сейчас это была «Аэлита» Алексея Толстого, которую ей посоветовала прочитать Анна, – фантастический роман о путешествии землян на Марс. Вера спала в детской, кровать Аленушки пока стояла в большой комнате. В 12 часов ночи ее нужно обязательно посадить на горшок, иначе ночью проснется, будет плакать и всех разбудит.
Все это – мелочи, повседневные заботы, которые приносили Лизе радость. Она была счастлива своим материнством, квартирой, вниманием и заботой окружающих ее людей. Вот только бы Коля скорей вернулся из тюрьмы, тогда все встанет на свои места.
Прочитав несколько страниц, она отложила книгу в сторону. Почему-то не читалось, и в голову настойчиво лезли мысли о муже и покаянном письме, которое чекисты упорно предлагают ему подписать. Эта история длится больше двух лет и может тянуться до бесконечности, так как вопрос о суде, который определил бы его вину и срок наказания, даже не поднимался, а протоколы, которые ему теперь стали приносить для ознакомления с каких-то заседаний Президиума ГПУ, были пустой формальностью, смахивающей на издевательства. Повторялась прежняя история с его арестом, только теперь вместо анархиста-махновца он фигурировал, как анархобандит – любимое слово чекистов и газетчиков.
Многие знакомые анархисты давно сами вступили в ВКПб, устроились на партийную работу и занимают высокие посты. И сейчас многие товарищи (анархисты, эсеры и меньшевики) заключают альянс с новой властью, считая, что только большевики, со своей армией и военной дисциплиной, могут вернуть Россию к нормальной жизни, прекратить грабежи и убийства, заставить людей заниматься делом. Они поверили в государство, пролетарскую диктатуру и ее рулевого – партию, которая и довела страну и народ до такой жизни.
Однако сейчас Лизу беспокоило другое. В самой партии в настоящий момент было не все благополучно. Троцкий, воспользовавшись тяжелой болезнью Ленина, начал открыто нападать на партию и ее руководство. Как говорили знающие люди, Лев Давыдович и Иосиф Виссарионович не поделили власть, Сталин невзлюбил этого «выскочку» еще со времен гражданской войны, когда Троцкий резко критиковал того за промахи в обороне Царицына.
Льва Давыдовича поддерживали все оппозиционные группировки: троцкисты, децисты, «рабочая оппозиция», остатки «левых коммунистов». Они возмущались процветанием бюрократии в партии, ее чрезмерной централизацией и злоупотреблением властью.
Наверху шла ожесточенная борьба. Сначала победители пожирали буржуазию и контрреволюцию, теперь они пожирают друг друга. Все проходило по известному сценарию Великой французской революции, а для коллективного осуждения использовались партийные съезды, конференции, дискуссии в печати, в которых участвовали все главные большевики: Каменев, Зиновьев, Сталин, Троцкий, Бухарин, Радек, Косиор, Раковский, Крестинский, Иоффе. После определенных резолюций и выводов оппозиционеры смещались со своих постов, исключались из партии, отправлялись в тюрьмы или лагеря особого назначения.
«Чем все это грозит для тех, кто сейчас, как Коля, находится в тюрьме? – раздумывала Лиза, прокручивая в голове все эти события. – ГПУ ничего не стоит и их причислить к оппозиции, сделать троцкистами или децистами и тоже отправить куда подальше».
Ее размышления прервал слабый звонок во входную дверь. Слышно было, как из своей комнаты вышла Татьяна, быстро-быстро по коридору зацокали ее каблучки, эта модница даже дома ходила на высоких каблуках. «Игорь забыл ключи», – решила Лиза и, закутавшись в плед, взяла в руки книгу. Но нет. Татьяна крикнула, что это пришли к ней. Пока Лиза нащупывала ногами тапочки, в комнату, слегка постучавшись, вошла Ядвига Болеславовна с опухшим, заплаканным лицом. Женщина дрожала всем телом и еле держалась на ногах. Лиза удивленно поднялась с кресла.
– Ядвига Болеславовна, что случилось? – она налила ей стакан воды из графина и, чтобы не разбудить детей, провела в кабинет Николая.
– Лялечку арестовали.
– Лялю? За что?
– Ах, Лизочка. Ляля тебе ничего не рассказывала, а у нас такое творится.
И она сбивчиво рассказала о визите Артура, связанного с контрреволюционной организацией, его агентах и вытягивании у них денег.
– Они считают, что ребенок у Ляли от него, и Ляля – его связная. А мы деньги давали от страха, не обращались в ЧК, боялись, что они нам не поверят.
– Какая чушь! Мало ли от кого у молодой женщины может быть ребенок? Я вот не знаю от кого и мне все равно. А, впрочем, – Лиза задумалась, – надо найти этого типа, пусть он признается в ЧК.
– Нет, нет, Лиза… Ляля этого не хочет.
– Почему?
– Потому что это, – Ядвига Болеславовна замялась, – это брат Николая Ильича, Володя.
– Володька, – Лиза так и ахнула. – Как же так, когда?
– Когда Ляля привезла к нему больного Сережу. После его смерти, Владимир Ильич поддерживал ее: ты же знаешь, они когда-то любили друг друга, а Ляля его никогда не переставала любить. Тогда все и произошло.
– Ну, конспираторы, ни тот, ни другой ни разу не проговорились.
– Ляля боялась ему навредить. Он дает нам деньги, навещает Андрюшу. Все эти деньги ушли к этим страшным людям. А сегодня, сегодня, – она всхлипнула и, чтобы не разрыдаться на всю комнату и не разбудить детей, уткнулась в платок, – пришли из ЧК с обыском, нашли за буфетом конверт с тайными сведениями для французского посла. Вот Лялю и арестовали, решив, что она должна кому-то передать это письмо. А мы даже не знаем, где находится этот посол… и как попал к нам конверт.
– Они сами его подбросили в момент обыска. За ними это водится.
– Они знают и про Володино отцовство.
– Значит, Володю тоже могут вызвать на допрос?
– Наверное, только пусть он знает, что Ляля о нем ничего не говорила.
Ядвига Болеславовна оторвала лицо от платка.
– Лизонька! Что же теперь будет? Артур ей и так всю жизнь испортил, а теперь еще вот это.
– Идите домой и постарайтесь успокоиться. Я сейчас позвоню Володе. Мы что-нибудь придумаем.
Проводив ее до входной двери, Лиза позвонила Володе, чтобы он срочно к ней приехал.
– Что за спешность? – удивился тот.
– Только что приходила Ядвига Болеславовна. Лялю арестовали, – прикрыв трубку рукой, шепнула Лиза. Татьяна уже крутилась в коридоре, пытаясь узнать, что произошло. Лизе не хотелось посвящать ее в неожиданные обстоятельства, связанные с Лялей и Володей.
– Сейчас приеду, – ответил тот дрогнувшим голосом.
Мальчики спали, Елена была в спальне и, услышав звонок, вышла в коридор, завязывая на ходу пояс на шелковом халате.
– Ты куда так поздно? – выразила она тревогу, увидев, что муж надевает пальто.
– Лиза просит срочно приехать.
– Опять у них что-нибудь случилось?
– Что-то у соседей.
– Возвращайся скорей, – сказала она, стараясь отгадать по его лицу: правду он говорит или обманывает? После возвращения с фронта он ни разу не давал повода в чем-либо его заподозрить.
– Подожди, посмотрю в окно, что там, на улице, – спохватилась она и пошла на кухню. – Кажется, дождя нет, но все равно возьми зонт и надень галоши, – проявляла жена совсем ненужную ему заботу.
Послушно надев галоши и взяв у нее зонт, он вышел в черную влажную ночь. Дождь, ливший целый день, перестал, но черные тучи снова заволокли все небо и грозили вылить на город новую порцию воды. Пытаясь найти такси или извозчика, он дошел до Лубянки. Около ресторана «Ливорно» стояло несколько машин: там обычно до утра гуляли нэпманы. Соблюдая договоренность, водители по очереди сажали к себе выходивших из дверей пьяных посетителей с такими же пьяными, сильно накрашенными девицами. Увидев Володю, водитель крайней машины выскочил наружу и услужливо распахнул перед ним заднюю дверцу.
– На улицу Станкевича, – сказал Володя, – и, пожалуйста, как можно быстрей.
В голове его не укладывались Лизины слова: «Ляля в тюрьме». Так вот почему последнее время она не хотела с ним встречаться: ей кто-то или что-то угрожало. Почему она ни с кем не поделилась, хотя бы с Лизой, возможно, они смогли бы ей помочь? Из задумчивости его вывел возглас водителя: «Все, приехали! «
Только тут он заметил, что на улице шел сильный дождь. Шумные потоки воды вырывались из водосточных труб. Все это устремлялось на мостовую, и бурная, пенистая река, увлекая за собой мусорные ящики, стулья и афишные тумбы, неслась вперед.
– Где мы? – не сразу сообразил он.
– На Неглинной, здесь всегда такой потоп. Надо было ехать по Садовой; дальше, зато надежней, – укорял себя водитель.
Володя протянул ему деньги и решительно распахнул дверцу. Сильная вонь ударила ему в нос (вместе с водой на поверхность поднимались все нечистоты, скапливающиеся в подземных канавах и коллекторах, куда были спрятаны река Неглинка и сточные воды в этом районе).
– Куда же вы? Здесь воды по колено.
Ничего не ответив, Володя шагнул в бурлящий поток.
– Держитесь ближе к домам, могут быть открытые люки.
Он вспомнил про зонт, раскрыл его, но ветер вырывал его из рук, выворачивая наизнанку. Одна спица согнулась, больно прищемив ему палец. С досады он отбросил эту бесполезную вещь в сторону.
Отсюда до улицы Станкевича было недалеко. Однако за 15 минут он промок насквозь, как будто искупался в реке. В подъезде снял пальто, ботинки, носки и в таком виде предстал перед Лизой и Татьяной, вышедшими его встречать. При виде соседки он поморщился: эта особа со своими многозначительными улыбками и ужимками вызывала у него отвращение.
Татьяна побежала ставить чайник. Лиза предложила принять горячую ванну. «Это лишнее, – сказал он, и, взяв у нее сухую одежду Николая, ушел переодеваться в другую комнату. Лиза все-таки сделала горячую грелку и положила ему под ноги.
– Пожалуйста, избавь меня от Татьяны, – сказал Володя. – У меня не то настроение, чтобы ловить ее взгляды.
В другой бы раз Лиза подшутила над ним и тихой Татьяниной влюбленностью, но сейчас было не до этого. Она поблагодарила соседку за чайник и попросила оставить их одних.
– Лена звонила два раза, – сказала Лиза, не знавшая о Лениной ревности и домашних скандалах. – Беспокоится, как ты доберешься к нам в такой ливень, да и бандиты по ночам пошаливают.
Володя промолчал. Лиза посмотрела на него с удивлением: почему он с таким равнодушием встретил сообщение о беспокойстве жены?
– Лена о вас знает?
– Конкретно о Ляле нет, но одно время у нас были натянутые отношения.
– Почему ты от нас все скрывал? Ляля приходит к нам сюда с Андрюшкой, а мы ведать, не ведаем, что это – твой сын.
– Она так хотела, чтобы Лена случайно не узнала. Рассказывай скорей, что у них случилось.
– В Москве появился Лялин муж, Артур, жил несколько дней у ее тети в Сокольниках. Он состоял в какой-то подпольной организации и выпрашивал у Ляли деньги. Ляля снимала их с твоей книжки и все ему отдавала. ЧК за ним следила, арестовала его и других связных, а перед тем, как ее саму арестовать, подкинула к ним в комнату конверт с компроматом. В ЧК были уверены, что Ляля – связная мужа, и Андрей – его сын. Потом им кто-то доложил о твоем отцовстве.
– Надо пойти в ЧК и все рассказать, чтобы они знали, откуда эти деньги, и что она ни в чем не виновата.
– Ты не знаешь ЧК. Они могут дойти до того, что свяжут нас всех в одну цепочку – тебя, Лялю, нас с Колей, наших соседей, всех наших знакомых-анархистов и всю твою больницу.
– Но это подло по отношению к Ляле: знать, что ее мучают допросами, и молчать.
– ЧК не оценит твоей самоотверженности. По четвергам на Лубянке приемный день, сегодня вторник, послезавтра я сама туда пойду и буду добиваться встречи с Лялей и следователем. А вообще – дело дрянь.
– Как все некстати. Послезавтра мне ехать на симпозиум хирургов в Петроград. Может быть, отказаться от поездки?
– За эти дни все равно ничего не изменится. Наоборот, ты там успокоишься, чтобы сгоряча не наделать глупостей, а здесь все прояснится.
ГЛАВА 3
От путешествия в холодный ливень Володя простудился и уехал в Петроград с больным горлом и высокой температурой. Там была уже зима, дул острый, пронзительный ветер, улицы завалило снегом. Городские власти в таких случаях выгоняли на уборку нетрудовое население – «недобитых буржуев», как их называли в народе. И сейчас мужчины и женщины в шубах и дорогих пальто, неумело работая лопатами и ломами, чистили тротуары и мостовые на всем протяжении Невского проспекта, пока он ехал от Николаевского вокзала до гостиницы «Астория».
В номере было не менее холодно, чем на улице. Горничная сообщила, что три дня назад лопнули трубы, их пытаются починить, и принесла ему два лишних одеяла.
– А чай сюда можно заказать?
– Утром, пожалуйста. Вечером буфет не работает, а ресторан обслуживает только своих посетителей. Но если вы очень попросите, – улыбнулась она, явно намекая на деньги, – вам принесут и чай, и кофе.
Через десять минут у него был не только чай, но и неплохой ужин. Чай он пил, стоя у окна и любуясь Исаакиевским собором, оказавшимся напротив его комнаты.
Симпозиум был рассчитан на четыре дня. Ему предстояло сделать три крупных доклада, прочитать несколько лекций в Медико-хирургической и Военно-медицинской академиях, провести десять показательных операций в госпиталях – все, как обычно, когда проходят большие форумы. Поздно вечером он возвращался в холодную гостиницу, просил горничную принести в номер несколько стаканов горячего чая; выпив их и наглотавшись лекарств, залезал под одеяла. Высокая температура упорно не хотела снижаться. Он уже жалел, что поехал сюда, но все выступления и другие мероприятия для него были очень важны, а день, проведенный с Бехтеревым в его особняке на Каменном острове, вернул его в лучшие годы молодости.
Владимир Михайлович пригласил его к себе в воскресенье. После обеда они перешли в кабинет академика, и за чашкой чая (Бехтерев никогда не пил спиртное, не курил и предпочитал вегетарианскую пищу) тот рисовал перед ним картины «всеобъемлющего проникновения в тайны мозга и человеческого разума». Затем также интересно рассказывал о гипнозе и своих опытах с дрессировщиком Дуровым. Они внушали собакам заранее задуманные действия, и те их безотказно выполняли.
Володя влюбленными глазами смотрел на академика, сидевшего перед ним с растрепанной бородой, нависшими, дремучими бровями и горящими глазами. Как далеко за все это время Владимир Михайлович продвинулся в своих научных и экспериментальных опытах!
– Вы должны переехать в Петроград и работать со мной в институте, – вдруг заявил он. – Гипноз открывает в психиатрии невиданные возможности.
– Владимир Михайлович, я все-таки оперирующий хирург, и мы в своей области тоже ведем научную работу и двигаемся вперед, хотя и не так быстро, как хотелось бы…
Неожиданно Бехтерев рассердился и в сердцах заявил, что разочарован в нем.
– Дорогой Владимир Михайлович, я буду с вами откровенен, есть и другие обстоятельства, которые не позволяют мне принять ваше предложение.
– Для настоящего ученого не может существовать никаких преград.
– Помните, как перед войной царское правительство отстранило вас от всех занимаемых должностей из-за участия в процессе Бейлиса: отняли у вас институт, уволили из Военно-медицинской академии и женского мединститута.
– Помню, помню, голубчик, – замахал руками Бехтерев, и брови его взлетели высоко вверх. – Отправили в отставку сразу по всем статьям.
– И у меня сейчас что-то вроде вашего положения, но уже с нынешними властями.
– Но что вы, голубчик, эта власть очень лояльная. Она трепетно относится к ученым и науке.
Увы! Упоенный вниманием большевиков к нему и его институту, Бехтерев не видел, что происходит вокруг. По просьбе Сталина он дважды осматривал Ленина, который был в очень плохом состоянии. Ласковый грузин покорил его своей заботой о больном вожде и его жене, хотя Володя слышал от других врачей, что Надежда Константиновна недовольна Сталиным, он грубо себя ведет с ней и всем там командует.
– У Ленина было несколько апоплексических ударов, – продолжал Владимир Михайлович, – это велено держать в секрете, но вам я могу сказать – его положение безнадежно, он тает на глазах и сильно страдает от головных болей. Я слышал, вы тоже осматривали вождя?
– И не один раз. Владимир Ильич ко мне так хорошо относился, что посоветовал Семашко отправить меня на фронт с инспекцией госпиталей. Я был в ужасе от положения дел там, но дал много советов, которые, надеюсь, пригодятся Красной армии в будущем.
– При любой власти медицина остается медициной, а наше дело лечить больных, кто бы они ни были. Помощники Сталина звонят мне домой. Если потребуется мое вмешательство, я готов вам помочь.
– Спасибо, Владимир Михайлович, надеюсь, до этого дело не дойдет. Присылайте, пожалуйста, мне свои работы, а я вам свои. Конкуренция нам не нужна.
– Так всегда говорил Даршкевич. Вот кого бы я хотел видеть в своем институте: вас, его, Крамера, Бурденко. Впрочем, сейчас много талантливых ученых, война подтолкнула вперед отечественную медицину.
– А я бы с удовольствием пообщался с коллегами в США и Швеции. Их успехи в нейрохирургии впечатляют.
– Так в чем же дело? Можем поехать туда вместе, я в молодости получил за границей много полезного.
– Я вам сказал, что у меня проблемы с властью.
– Держите меня в курсе, я постараюсь использовать все свои связи.
По вечерам он звонил в Москву жене и Лизе. Елена говорила ровным, спокойным голосом, непременно прибавляя, что они с ребятами очень скучают и с нетерпением ждут его. Лиза встречалась в Лефортовской тюрьме (Лялю поместили туда) со следователем, тот сказал, что положение Ляли серьезное – ее обвиняют в связи с контрреволюционной военной организацией, свидание не разрешили. Приняли только передачу и записку.
В день закрытия симпозиума вечером в ресторане «Европа» на Михайловской улице состоялось что-то вроде банкета. На длинных столах, покрытых безукоризненно чистыми и туго накрахмаленными, как в былые времена, скатертями, стояли тарелки с бутербродами: тонкими кусками черного хлеба с такими же тонкими, почти прозрачными кусками сыра и колбасы. В вазочках лежали баранки, сушки, мелко наколотые куски сахара. Зато много было водки и армянского коньяка, оставшихся еще с царских времен в подвалах города. Гости и делегаты с удовольствием все поглощали, даже сушки (скоро все тарелки, вазочки и бутылки опустели), громко разговаривали, спорили, смеялись. Володе к этому дню стало легче, температура спала. Обходя столы и пожимая руки своим коллегам, он выслушивал похвалы в свой адрес и адрес своей больницы, на базе которой недавно был организован Институт неотложной помощи.
В гостиницу он вернулся в начале второго ночи. Звонить в Москву было поздно. Успокоив себя тем, что послезавтра вернется домой, наглотался лекарств и быстро заснул. Разбудил его телефонный звонок. Схватив трубку, взглянул на лежавшие рядом часы – прошло всего двадцать минут, как он лег в кровать. «Вызывает Москва», – сказала телефонистка, и он понял: случилось что-то ужасное.
На том конце провода послышался плачущий голос жены:
– Володя, я тебе уже четвертый раз звоню.
– Я был на банкете, что случилось?
– Приходил человек из ГПУ, тебя вызывают на Лубянку. Как ты думаешь, что это может быть?
– Не знаю, – как можно спокойней сказал он, хотя внутри у него всего похолодело. – Это какая-то ошибка. Я завтра выезжаю домой.
– Я боюсь, – всхлипнула Елена.
– Тебе нечего бояться. Лизе позвонила?
– Позвонила. Она очень удивилась.
– Пожалуйста, не волнуйся. Я приеду и все улажу.
Он первый положил трубку. Жаль, что в квартире Лизы телефон стоит в коридоре, и туда поздно звонить. Сон, как рукой сняло. Потянуло побродить по Петрограду. Говорили, что в городе по ночам опасно ходить: орудуют банды и карманники. Ничего, он прогуляется только к памятнику Петру I.
Дремавший за стойкой дежурный администратор с удивлением посмотрел на него.
– Я сейчас вернусь, – успокоил его Володя, – пройдусь около собора и обратно. Что-то не спится.
– Будьте осторожны, далеко не ходите.
На улице заметно потеплело, падал снег, под ногами крутилась поземка. В свете тусклых фонарей от домов и деревьев вырастали причудливые тени. По мере его удаления от одного фонаря они исчезали, с приближением к другому снова возникали, как будто кто-то шел рядом с ним, приплясывая и кривляясь.. На Сенатской площади было темно и пустынно, горел всего один фонарь около памятника Петру I, показавшегося ему при таком освещении непомерно громадным. Обойдя его вокруг, он постоял несколько минут в раздумье и пошел дальше, один со своими тяжелыми мыслями в этом спящем величественном городе.
Известие о вызове в ГПУ его взволновало. Ему было страшно, нет, не за себя, за Лялю, за свою семью, маленького Андрюшу. Как опытный шахматист, он проигрывал в уме все варианты событий, ожидающих его в Москве: возможный арест, отстранение от должности в институте, от чтения лекций в вузах, от научной работы и самое худшее – от операций. В Кремль и к наркомовским деятелям его уже точно теперь не пригласят, и он представил огорченное лицо Семашко, его тихий, вежливый голос с упреком: «Что ж это вы, батенька, так нас подвели, а ведь мы вам так доверяли?»
Совсем скоро Елена узнает и о его связи с Лялей и их сыне. Что она тогда сделает? Объявит ультиматум, устроит громкий скандал и, хлопнув дверью, уйдет с детьми к какой-нибудь знакомой, есть у нее одна такая сокровенная подруга, жена режиссера Суздальцева, Светлана, но долго там жить не сможет, да и кому она там с детьми нужна? Вернется домой, потребует разменять жилплощадь и имущество. Затем уедет в новую квартиру и заберет с собой мальчиков.
Нет, он этого не допустит. Пусть живут в этой квартире, оставив ему один кабинет. Он будет давать ей деньги, общаться с детьми, а Елене предоставит полную свободу действий. Сам разводиться и бросать семью не собирается. Все это крайне неприятно, мерзко, унизительно. Унизительней, чем идти в ГПУ. Наоборот, он даже рад, что его туда вызывают. Расскажет следователю всю правду об их отношениях с Лялей, тем самым, возможно, облегчив ее участь. Совесть у него будет чиста. Сейчас он испытывал к ней особенно сильное чувство, хотелось прижать ее к себе, защитить от этого жестокого мира.
Ноги сами вынесли его к каналу Грибоедова и тому дому около Банковского моста, где они когда-то поселились с Еленой и где родились мальчики. Как давно это было, и сколько за это время произошло событий, которые нельзя было представить даже в самом страшном сне.
ГЛАВА 4
Прогулка по городу принесла свою пользу. Всю обратную дорогу до Москвы Володя проспал. Сон вернул ему внутреннее спокойствие, уверенность в себе. Оставив вещи на вокзале в камере хранения, он поехал на улицу Огарева к Ядвиге Болеславовне.
Когда-то Ляля дала ему на всякий случай ключ от своей квартиры. Он ни разу им не воспользовался. Сейчас же решил без лишнего шума пройти в их комнату, хотя сделать это в многонаселенной квартире было невозможно. Несколько любопытных соседок все-таки выглянули в коридор и, проследив, к кому он идет, обменялись взглядами, чтобы потом обсудить эту новость на кухне. Исчезновение Назаровой и арест медсестры Хазиной всколыхнули всю квартиру. С утра до ночи только и говорили об этом, как будто у людей не было других забот.
Когда постучали в дверь, Ядвига Болеславовна гладила белье. От неожиданности она вздрогнула и застыла на месте с горячим утюгом в руке. Увидев Володю, женщина разрыдалась. Вслед за ней Андрей заревел благим матом. Володя взял его на руки, прижал белую головку сына к плечу. Успокоившись, мальчик стал теребить его черный в крапинку галстук, пытаясь развязать его.
– Ядвига Болеславовна, я приехал к вам прямо с вокзала. Вчера мне в Петроград звонила жена. Меня вызывают в ГПУ.
– Батюшки мои, – испуганно воскликнула та, тяжело опускаясь на стул. – Это из-за Лялечки…
– Если со мной что-нибудь случится, всегда без стеснения обращайтесь к Николаю и Лизе, они вам помогут.
– Да что вы такое говорите, Владимир Ильич? Неужели они посмеют и вас тронуть?
– Предупреждаю на всякий случай. Такая у нас теперь жизнь, сегодня не знаешь, что будет завтра. А у вас тут больше нет близких людей. От вашей сестры толку мало.
– Ее можно понять. Она столько пережила. Лиза мне звонит каждый день. Ей тоже нелегко. От Николая требуют подписать какое-то скверное письмо.
– Хотят насильно записать в большевики. Мне пора идти. Надо еще зайти к Лизе.
– Владимир Ильич, – вновь запричитала бедная женщина, забирая у него с рук Андрюшу, не хотевшего расставаться с отцом, – кто же мог подумать, что так все обернется. Лялечка так вас любит.
– Папа, не уходи, – захныкал мальчик, снова просясь к нему на руки, – почему ты не можешь остаться?
– Мне пора, сынок, – сказал Володя, не в силах видеть, как мальчик плачет, и, не зная, что ему сказать. Скоро, уже совсем скоро подойдет время, когда ему придется все объяснить, и еще неизвестно, как он все воспримет.
– А где мама? Я хочу к маме. Почему она ушла? – затянул малыш плаксивым, ноющим голосом.
– Владимир Ильич, он так о ней скучает.
Володя снова взял мальчика на руки, крепко прижал к себе и строго спросил:
– Ты мальчик или девочка?
– Мальчик.
– Значит, мужчина, а мужчинам не положено хныкать. Ты должен слушаться бабушку; мама скоро вернется. Я тебе обещаю.
Оттуда он дворами прошел на улицу Станкевича. Лиза огорошила его неприятным известием: Лялю перевели в Орел, а ее мужа два дня назад расстреляли. Об этом сообщили все газеты, представив Хазина и его сообщников как участников контрреволюционного заговора, успешно раскрытого ГПУ.
– Почему ее перевели в Орел?
– Здесь у них все тюрьмы переполнены, – предположила она. – Опять взяли многих наших анархистов.
Лиза сама ужаснулась, когда узнала о таком переводе – это был тот самый Орловский централ, который до революции славился на всю Россию своими жестокими порядками и где забили до смерти Сашу Бейлина.
– Если заговор успешно раскрыт, зачем меня вызывают на Лубянку?
– В ГПУ уверены, что Ляля была их связной и все, кто с ней общался, причастны к этому заговору и могут оставаться на свободе. Они и ее тетю допрашивали. Та вообще в ужасе. Просила Ядвигу Болеславовну больше к ней не приезжать и не звонить. Хазин, подлец, ведь знал, что за ним могут следить. Стольких людей подвел.
– До тебя я был на Огарева. Андрюшка плакал, спрашивал о маме. Еле-еле успокоил.
– Завтра обязательно им позвоню и приглашу к себе.
– Надо кому-то съездить к Ляле в Орел, – сказал Володя. – Может быть, Татьяну попросить или братца?
– Я тоже об этом думала. Сегодня же поговорю с Татьяной, но вряд ли ей понравится эта идея, она ревнует тебя к Ляле.
– Господи, какая глупость. Лена ревнует, эта ревнует. Они все решили меня с ума свести. А Раиса где, что-то давно ее не видно?
– Уехала домой, не понравилось в Москве.
– Жаль, она серьезней Татьяны. В крайнем случае, если они с братцем откажут, попрошу своего водителя Максима. Ему можно довериться. – Володя встал.– Мне пора идти.
– Где твои вещи?
– На вокзале. В камере хранения. Не успел никому купить подарки. По дороге заскачу в магазин. И вам потом что-нибудь привезу.
– Посмотри хоть на нашу Аленушку.
– Прости, что за этими делами не спросил о девочках. – Он подошел к детской кроватке. – Спит малышка, и не представляет, какие страсти разгораются в этом мире. В следующий раз всю ее осмотрю и прослушаю.
Он обнял Лизу и поцеловал в щеку.
– Предчувствую неприятный разговор дома. Ты сейчас – моя единственная опора.
По дороге с вокзала накупил жене и детям подарки – как будто из Петрограда. Руки его были заняты чемоданом и коробками. Хотел незаметно войти в квартиру и обрадовать домочадцев своим появлением, но, как назло, ключи куда-то задевались. На звонок долго никто не откликался. Он позвонил еще раз, еще, уже начиная тревожиться и догадываться, в чем дело. Наконец в коридоре послышались тяжелые шаги тети Паши, она долго возилась с замком и цепочкой.
– Ой, Владимир Ильич, – запричитала женщина, увидев его, – что тут было? У Елены Сергеевны случилась истерика, пришлось вызывать врача.
В коридоре пахло лекарствами. Тетя Паша сбивчиво рассказала, что днем приходили люди с Лубянки, произвели обыск в его кабинете.
– Что они могли искать? Ума не приложу.
Володя бросился в кабинет: часть книг из его огромной библиотеки лежала на полу, сверху стояли ящики из письменного стола, по всей комнате валялись рукописи и папки с бумагами. Тетя Паша вошла за ним.
– Хотела все убрать, но тут с Еленой Сергеевной это и приключилось. Когда чекисты ушли, она стала носиться по квартире, топать ногами, дико кричать. Дети перепугались. Я отвела их к соседям, – тетя Паша перешла на шепот. – Это правда, что у вас есть другая женщина и ребенок?
Володя с тоской посмотрел на нее.
– Правда, и эта женщина попала в скверную историю.
– Что же теперь будет?
– Что бы ни было, вы останетесь в этой квартире. Мальчики все еще у соседей?
Тетя Паша кивнула головой. Володя с горечью подумал о том, что теперь весь дом знает о том, что у них случилось, и это может навредить мальчикам. Он попросил ее привести их домой, сам пошел к жене в спальню.
Елена лежала на кровати лицом к стене, на тумбочке стояли бутылки с лекарствами. Он тронул ее за плечо, чтобы посмотреть: спит она или просто лежит. Она вскочила и, прижимая руки к груди, закричала чужим, визгливым голосом:
– Не смей меня трогать, изменник, негодяй, двоеженец.
– Это ничего не меняет в наших отношениях. Я не собираюсь вас бросать.
– Известный профессор, научная величина и с кем связался, с какой-то шлюхой из Екатеринослава. И твои родственнички не лучше. Лиза! То с одним была, то с другим.
– Это мерзко, – возмутился Володя, – ты сама не знаешь, что говоришь.
Он ушел в кабинет, и, не зажигая света, сидел в темноте, ожидая, когда придут дети. Их долго не было, наверное, заканчивали какую-нибудь игру или чтение книги. Скрипнула дверь: это Елена выглянула в коридор, позвала тетю Пашу и, не дождавшись ее, прошла в кухню. Слышно было, как из крана лилась вода, зашумел и засвистел чайник. Затем она вернулась в комнату, демонстративно хлопнув дверью.
Наконец пришли мальчики; переговариваясь с тетей Пашей, разделись и прошли в свою комнату. Каждое слово или звук отдавались в его голове сильной болью. Подождав, пока тетя Паша, любившая во всем порядок, расставит по местам всю обувь и протрет пол от снега с его галош, он прошел в детскую. При его появлении мальчики встали и молча смотрели на него. Они обожали отца, гордились им, хотели во всем походить на него и тоже стать хирургами. Отец для них был все, но и мать они любили не меньше и были к ней сильно привязаны, как обычно бывают привязаны дети, когда большую часть времени проводят в женском обществе. Сейчас оба выглядели растерянными, не зная, чью принять сторону: обыск в квартире и истерика с матерью произвели на них тяжелое впечатление.
– Мама из-за тебя плакала и кричала, – сказал Шурик. – Ты ее обидел.
Старший сын стал совсем взрослый. Ему было пятнадцать лет, красивый кареглазый мальчик, физически хорошо развитый. Володя, как отец не делал различия между детьми, но как-то так сложилось, что Шурик был «папиным» сыном, а Павлик, более изнеженный и избалованный за время его отсутствия на фронте, – «маминым зайчиком», как называла его Елена. Володя обнял мальчиков, поцеловал в макушки.
– Вы не должны ни о чем думать, это наши с мамой дела. Мы обязательно помиримся.
– Она сказала, что мы уедем жить к тете Свете, ты останешься один.
Володя нахмурился: он не ожидал, что все произойдет так скоро.
– Мама вам так сказала?
– Да, велела собрать свои вещи и учебники.
– Дорогие мои, – Володя еще крепче прижал их к себе, – мама сейчас расстроена, но знайте, что я вас очень люблю, и мы всегда будем вместе. Ваш дом только здесь.
Велев им ложиться спать, подождал, пока они разденутся и лягут в кровати, поцеловал их, как всегда это делал на ночь, и вернулся к себе в кабинет. Тетя Паша в его отсутствие подняла с пола все бумаги и теперь расставляла книги в шкафу. Он с благодарностью обнял ее.
– Спасибо вам за все, мой добрый ангел.
– Ни о чем не беспокойтесь, Владимир Ильич, я присмотрю за Еленой Сергеевной и детьми. Как же они посмели вас вызвать на Лубянку? Вы говорили, что та женщина попала в скверную историю. Это связано с ней?
– Скорее всего да.
Спустя некоторое время позвонила Лиза. По голосу Володи она поняла, что у него что-то произошло.
– Елена про вас узнала? – спросила она.
– Приходили из ГПУ, все ей рассказали и перерыли мой кабинет. У нее была истерика, завтра она переезжает с мальчиками к своей приятельнице.
– Да, де-л-а, – протянула та с сочувствием. – Татьяна пришла с работы, я ей сказала, что Лялю арестовали из-за мужа, и теперь ГПУ тебя теребит, так как ты лечил ее сына. От ее судьбы зависит и твоя жизнь. Для тебя она готова на все. Завтра отпросится с работы и поедет в Орел. Братец собирается с ней. Он работает грузчиком. У него это проще. Ты сможешь к нам зайти сразу после Лубянки, я буду дома или гулять с Аленой во дворе?
– Постараюсь, если меня не арестуют.
– Не говори глупостей, за что им тебя арестовывать? А вообще, как наставлял Миша, не отвечай на провокационные вопросы, молчи.
ГЛАВА 5
Следователь с вполне приличной фамилией Емельянов сразу вывел Володю из себя. Он сидел за столом в вольной позе, вытянув ноги и расстегнув гимнастерку и ворот рубахи, так что была видна его худая, волосатая грудь. Несколько лет назад там, наверное, висел и крестик на цепочке.
У него было мрачное, серо-пепельное лицо, мутный взгляд и на редкость удивительный лоб – покатый, как крыша, на краю которой повисли брови, как будто зацепились за него, чтобы не скатиться вниз. Разглядывая сидевшего по другую сторону стола человека, он без конца курил (не успел закончить одну сигарету, как начинал другую), напустив полную комнату дыма. Такое непрерывное курение говорило о его крайней нервозности и психической неуравновешенности.
– Как же так получается, Владимир Ильич, – наконец, прервал он молчание, – уважаемый человек, известный врач, профессор и пошли на сомнительную связь с медсестрой?
Володя промолчал.
– Вам известно, что гражданка Хазина, с которой вы состоите в интимной связи, является членом контрреволюционной организации?
Володя пожал плечами, ему нечего было на это сказать.
– Решили играть в молчанку. А вот она призналась, что вы давали ей деньги на нужды этой организации.
– Чушь какая-то, – не выдержал Володя. – Я перечислял деньги на ребенка.
– Вы хотите сказать, что Андрей Зильберштейн – ваш сын, а не ее мужа Хазина?
– Мой. Я этого не скрываю, и ваши люди в мое отсутствие рассказали об этом моей жене.
– Сама Хазина почему-то это усиленно отрицает.
– Это понятно, не хочет меня компрометировать.
– Вы продолжительное время отсутствовали в Москве, ездили по районам, где действовала Добровольческая армия, мы не исключаем, что через Хазину вы имели поручения от ее мужа к деникинскому штабу и успешно их выполняли.
– Я ездил по просьбе наркома Семашко с инспекцией лазаретов Красной армии, у Николая Александровича есть все отчеты о наших проверках.
– А вот начальник екатеринославской губЧК Арон Ефимович Могилевский утверждает, что во время нахождения в части 12-й армии вы уезжали оттуда на два дня, и он, будучи в это время туда доставлен в тяжелом состоянии, из-за вас чуть не умер.
Володя хотел сказать, что он был у матери, в Ромнах, что легко проверить, но вовремя спохватился: не хватало, чтобы они еще его родных допрашивали.
– Черт знает, что, – взорвался Володя. – Я стоял по нескольку суток около операционного стола, спас сотни бойцов, и вся моя нынешняя работа связана с больницей, посещением больных на дому, к коим относятся Владимир Ильич Ленин и его окружение. До сих пор мне все доверяли.
– Тогда мы о вас многого не знали. Наши враги еще не так маскируются, – ухмыльнулся Емельянов и, покопавшись в папке, вытащил из нее лист бумаги. – Все ваши братья успели себя показать с самой худшей стороны. Тот же Могилевский утверждает, что еще один ваш брат Илья Даниленко набросился на него с оружием при аресте махновцев на станции Ромодан и чуть не убил его. Только заступничество командира эскадрона и снисходительность самого Могилевского помогли вашему брату избежать трибунала.
«Где они все это собрали? – удивился Володя, стараясь не выдать своего волнения. – Даже Илью сюда приплели. Этот Могилевский сущий дьявол».
– Могилевский не сообщил вам в своем рапорте, что я сделал ему операцию, невозможную в полевых условиях, спас ему жизнь. Об этом он, наверное, забыл упомянуть.
– Оставим в стороне эмоции. Итак, я опять хочу от вас услышать, когда вы познакомились с Артуром Хазиным? Ведь вы долго жили в Екатеринославе?
– Я его не знаю и никогда не знал. В то время, когда я там жил, Хазин учился за границей, сама Елена Наумовна до замужества его не знала и не видела.
– Так, так, – обрадовался Емельянов. – Оказывается, вам многое известно, и имя Хазина вы слышали.
Володя понял, что наговорил лишнее и решил теперь молчать. На пять или шесть следующих вопросов он никак не отреагировал.
– Ответьте мне на один единственный вопрос: почему жена Хазина в Москве поддерживала отношения именно с вами?
– Я лечил ее больного сына.
– Вы подтверждаете, что ее ребенок Андрей Зильберштейн – ваш сын.
– Я вам уже об этом говорил.
– Кто еще это может подтвердить?
Володя пожал плечами. От этих бессмысленных вопросов и дыма у него разболелась голова. Возможно, в Петрограде у него была вовсе не простуда, а вирусный грипп, и болезнь снова вернулась к нему. Серо-пепельное лицо крышелобого плавало в тумане, то приближаясь к нему, то упираясь в стену и сливаясь с висящей там фотографией Дзержинского.
Емельянов нажал кнопку. Вошел дежурный конвоир.
– Давайте сюда Цыплакова.
Ввели высокого мужчину, в мятом парусиновом пиджаке и таких же мятых (жеваных) брюках. На его лице Володя увидел застывший ужас: глаза вылезали из орбит, голова тряслась, все тело дергалось, как обычно бывает перед припадком у больных эпилепсией. Еще минута, и он грохнется на пол.
– Вы знаете этого человека? – спросил крышелобый Володю, не предлагая вошедшему сесть, тот все больше и больше трясся, не зная, куда деть свои расходившиеся руки…
– Первый раз вижу, – мотнул головой Володя и опустил глаза, чтобы не видеть лица несчастного мужчины.
– А вы? – обратился он к Цыплакову.
– З-з-наю, он х-ходит к Хазиным.
– Я этого человека не знаю, и мне до него нет дела. Сколько можно повторять, я ходил к Хазиной и являюсь отцом ее ребенка.
Тут послышался тяжелый стук, это упал Цыплаков. Он мычал и выл, содрогаясь в судорогах. Голова его билась о деревянный пол, изо рта шла пена. Володя вскочил со стула, намереваясь помочь больному:
– Это – эпилепсия, – громко крикнул он, совсем забыв, где находится, – надо придержать ему язык, иначе он откусит его.
Емельянов тоже вскочил, но по другой причине: он принял движение Володи за намерение наброситься лично на него и выхватил наган.
– Не двигаться! Хорошенькую вы тут устроили комедию, – грозно прорычал он. – Охрана!
Вбежали конвоиры, подхватили Цыплакова подмышки и поволокли к двери.
– В камеру и вызовите врача, – крикнул вдогонку следователь, – пусть посмотрит, не симулирует ли он.
Крышелобый еще два часа мучил Володю, задавая по кругу одни и те же вопросы, чтобы запутать его и навязать свои чудовищные обвинения о связях с контрреволюционной организацией, в которую входили супруги Хазины. В течение последних сорока минут несколько раз звонил телефон, Емельянов недовольным голосом отвечал: «Да, я знаю, мне передавали его просьбу». Это Володины коллеги подняли тревогу и сюда звонили из приемной Семашко.
– Послушайте, – устало сказал Володя, – я уже все сказал и больше не намерен отвечать на ваши бессмысленные вопросы. Делайте со мной, что хотите.
Он был уверен, что его отправят в камеру вслед за Цыплаковым, однако его отпустили, предупредив, чтобы он никуда из Москвы не выезжал. Последнее его расстроило больше всего: в воскресенье он собирался поехать к Ляле.
С Лубянки он пошел к своим на улицу Станкевича. Погода в эти дни в Москве резко поменялась: пришла зима с сильными снегопадами. И здесь, как в Петрограде, городские власти вывели на улицы «нетрудовой элемент». Мужчины и женщины всех возрастов в шубах и меховых шапках старательно сгребали снег в кучи огромными деревянными лопатами.
На звонок в квартире никто не откликнулся, и во дворе Лизы не было. Очевидно, она с младшей дочкой отправилась в школу за Верой, соседи были на работе. Володя посмотрел на часы, в это время Ядвига Болеславовна с Андрюшей гуляли в Александровском саду, и он отправился туда, найдя их около грота в первой половине сада.
Видимо, до этого Ядвига Болеславовна катала внука на санках и теперь безуспешно пыталась вытащить его оттуда. Малыш капризничал, брыкался ногами. На помощь ей пришла девушка с соседней скамейки и что-то стала объяснять Андрюше. Послушно выбравшись из санок, он засеменил к группе таких же малышей, лепивших снежную бабу. Ядвига Болеславовна опустилась на скамейку: тихая, убитая горем пожилая женщина. На самом деле она была далеко не старой, ей было чуть больше пятидесяти лет. Это жизнь так сломила ее за последнее время.
Чтобы лишний раз не расстраивать сына, он не стал к ним подходить, да и было такое ощущение, что за ним следят, хотя чего уж тут таиться: ГПУ все известно и о нем, и о его отцовстве. Хотя кто знает, что им может прийти в голову; еще придумают, что Ядвига Болеславовна осталась тут за главного связного. Пройдя на соседнюю аллею, он смотрел оттуда на сына, еле передвигавшегося в валенках и тяжелой цигейковой шубе, купленной на вырост. Через несколько месяцев ему исполнится четыре года. Он давно решил купить ему ко дню рождения велосипед. Только как теперь передать этот подарок?
В саду было полно гуляющих: детей, пожилых людей, много военных с молодыми женщинами, одетыми в модные ныне черные приталенные пальто с лисьими воротниками. Останавливаясь, они рассматривали на кремлевских стенах следы от пуль, оставшихся от боев в октябре 17-го года. Еще одним объектом для осмотра был обелиск в начале сада, воздвигнутый когда-то к 300-летию Дома Романовых с именами всех царей и цариц, начиная с Михаила Феодоровича и кончая Николаем II. Недавно его обновили, заменив царские имена на фамилии «выдающихся» мыслителей и деятелей борьбы за освобождение трудящихся.
Послышалась барабанная дробь. На аллее появилась колонна детей с плакатами: «Воспитывайте детей с помощью педагога, а не бога!», «Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и елку!». Дети были из приюта, все в одинаковых пальто, валенках и шапках-ушанках. Взрослые не зря вывели их на улицу: у верующих скоро начинался Филиппов пост (по старому стилю), затем наступали Рождество и Новый год. Правда, в СССР теперь по новому григорианскому календарю сначала наступал новый год, а потом уже Рождество. К тому же власть объявила войну религии и всем церковным праздникам. Колокола во многих храмах молчали, в самом Кремле церковные здания превратили в бытовые учреждения. В Чудовом монастыре устроили разные учреждения и больницу, где Володе однажды пришлось консультировать высокопоставленного товарища из ЦК партии. Этих детей из приюта оставалось только пожалеть. Их лишили самой большой радости: наряжать елку, находить под ней утром подарки, верить в сказку и чудеса.
Ядвига Болеславовна собралась домой, посадила Андрея в санки и повезла к выходу около Манежа. Следуя за ними на расстоянии, Володя с горечью замечал, что женщина еле-еле тащит тяжелые санки, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть. Спина ее согнулась. А этот бессовестный мальчишка еще и подгоняет ее, размахивая руками, как будто дергает вожжи: «Бабушка, н-но, быстрей, лошадка, н-но-но-н-но». Некому его отшлепать и объяснить, что так нельзя обращаться со старшими. Перед подъездом она вытащила внука из санок и, придерживая дверь ногой, с трудом втащила его и санки в подъезд. Расстроившись еще больше, Володя отправился к своим через проходные дворы.
Лиза была уже дома, готовила на кухне ужин. На сковороде шипела рыба, вкусно пахло борщом.
– Вот не догадался, надо было что-нибудь купить к столу, – посетовал Володя.
– Ничего не надо, у нас все есть, – успокоила его Лиза.
– А выпить найдется?
– Найдется коньяк, еще остался от Аристова, – она с тревогой посмотрел на Володю. – Что, так все плохо?
– Не пойму. Всех вспомнили, даже Илью: он хотел зачем-то выстрелить в Арона Могилевского, когда вас арестовали в Ромодане.
– Илья там случайно оказался со своим эскадроном и хотел забрать девочек у чекистов. Вера его узнала.
– Могилевский накатал на меня бумагу, что я на два дня куда-то отлучался. Помнишь, я приезжал к вам в Ромны из отряда, его как раз в это время привезли полуживого в наш лазарет, он, видите ли, из-за меня чуть не умер. А то, что я ему сделал сложнейшую операцию, и он остался жив, про это он забыл. Следователь обыграл его донос, как будто я уехал выполнять задание Хазина.
– О-о-о! На это они мастера. Сам Дьяченко, наш следователь в Екатеринославе, по сравнению с ними, кажется ребенком.
С работы вернулась Татьяна, сразу взяла все в свои руки: накрыла в Лизиной комнате стол, вытащила из буфета бутылку с остатками армянского коньяка. Володе обычно не нравилось, что она распоряжается у его родных, как у себя дома, но сегодня ее забота и дружеское участие в нем были даже ему приятны. Он стал изучать этикетку на бутылке.
– Хороший коньяк. В былые времена мы советовали больным пить его для здоровья, в нем масса полезных свойств и успокаивает нервную систему.
– То-то у них там наверху крепкая нервная система, – пошутила Лиза, и все рассмеялись.
Позвали детей. В комнате стало шумно. От коньяка и общения с близкими людьми у Володи поднялось настроение. Татьяна сказала, что отпросилась на работе на три дня, чтобы съездить в Орел, постарается поговорить со следователем и добиться свидания с Лялей.
– Ляля должна знать, – наставляла ее Лиза, – что мы ее не бросили, в разговоре со следователем нажимай на то, что у нее маленький ребенок.
Татьяна была не из робкого десятка, с деловой крестьянской хваткой и практическим умом, да еще пускала в ход свои чары. На мужчин это действовало неотразимо. Лиза надеялась, что она обязательно выжмет из следователя все, что можно, и добьется свидания с Лялей. Даже Володя проникся к ней уважением, не обращая внимания на ее томные взгляды, которыми она время от времени одаривала его, теперь уже больше для того, чтобы утешить и поддержать.
Получив все указания, Татьяна ушла к себе и забрала детей, чтобы Володя и Лиза могли спокойно поговорить. Лиза разлила по рюмкам остатки коньяка.
– Я не люблю коньяк, – сказала она, отпивая его мелкими глотками, – но этот пью с удовольствием, он напоминает мне о том, как сюда приходил Аристов и обрадовал нас известием, что Колю оставляют в Москве. Все так быстро меняется в этой жизни. Ты меня очень удивил рассказом о Могилевском. Раньше он мне казался человеком железной воли, сильным, смелым, преданным нашему делу и не способным на предательство и измену. И вот он уже служит большевикам, ненавидит всех своих бывших товарищей, пишет донос на человека, спасшего ему жизнь. Что это: цинизм или отклонение в психике?
– На этот вопрос может ответить только Бехтерев. Ну, а если серьезно: то, что он помог тебе с детьми в Харькове, говорит о том, что в нем сохранились человеческие качества и, возможно, остатки былой влюбленности в тебя. Донос на меня: стремление спасти свою шкуру и выслужиться перед начальством, что он хорошо усвоил, поработав у большевиков …
– Как ГПУ все ловко завернуло. К этому Хазину прицепили тебя и Илью, который ведать не ведает, что есть такой мерзкий тип, и на него ЧК собирает материалы. При желании сюда можно притянуть весь медперсонал вашего института и Лялиной больницы. Если бы Коля не сидел в тюрьме, они наверняка сделали бы из него главного связного Хазина или самого Савинкова. Его тайный агент из «Союза спасения Родины» в 18-м году работал комендантом в Доме анархии.
Лиза задумалась, по лицу ее пробежала улыбка, в глазах вспыхнули озорные огоньки.
– А ведь если копнуть еще глубже, например, в 907-й год, то тогда мы тоже все были связаны. Помнишь, Лялин юбилей в роскошном особняке на Екатерининском проспекте? В тот день я устроила в ее спальне встречу актива отряда Борисова. Пока я пела перед гостями под аккомпанемент Зильберштейна, ребята обсуждали свои боевые задачи. Могилевский там тоже был. Тогда как раз арестовали Кешу, нужны были большие деньги для его освобождения. У Борисова денег не было, он просил подождать и запретил товарищам заниматься «эксами». Могилевский тогда был от меня без ума, после концерта разыскал меня, объяснился в любви и обещал достать нужную сумму. И достал. Кеша и доктор Боков оказались на свободе. Коля, конечно, всех подробностей не знает, а Ляля тем более.
– Д-а-а, интересная история. И как тебе такое могло прийти в голову: устроить встречу боевиков у Зильберштейнов?
– Сама сейчас удивляюсь.
– Следователь, который меня допрашивал, – снова помрачнел Володя, немного оживившись от Лизиного рассказа, – страшный человек, несколько часов ходил по кругу, задавая одни и те же вопросы. Я не могу представить на моем месте Лялю. Они ее сломают и заставят подписать, что угодно.
– Пока не сломали, раз отсюда перевели в Орел. Жизнь с таким отцом, как Наум Давыдович, и таким же мужем-самодуром должна была ее закалить. Лучше скажи, как там Лена, пришла в себя?
– Играет в молчанку. Собирается с мальчиками переехать к своей подруге Суздальцевой. Тошно, Лизонька, ох, как тошно!
– Как женщина, я ее понимаю, – сказала Лиза. Она не испытывала к Елене особого расположения, но никогда этого не показывала. – Измену мужа трудно пережить, но, поверь мне, никуда она от тебя не уйдет, покуражится для виду и простит. За всю свою жизнь она никогда не работала, дома ничего не делает, живет у вас с тетей Пашей, как у Христа за пазухой. А твое имя, положение, твой научный вес? Нет, ни одна умная женщина от этого не откажется.
– Я окончательно растерян. Не знаешь, как себя вести, когда ЧК дышит в спину.
– У них на тебя ничего нет. Ты чистый, кристальный человек, неутомимый труженик, каких поискать. Удивляюсь на Семашко, почему он до сих пор за тебя не заступился.
– Николай Александрович добился, чтобы меня отпустили домой из ГПУ. Это – чрезвычайно интеллигентный человек, мне не хотелось бы его подводить …
– Вот ты всегда так, думаешь о других, а не о себе. А вообще, знаешь что, оставайся-ка лучше жить у нас, пусть Лена придет в себя.
– Нет, так нельзя. Во-первых, не могу оставить мальчиков и тетю Пашу, во-вторых, у меня дома все рукописи, научные записи… у меня столько работы.
– Как хочешь! Пойду, позвоню, узнаю, что там у вас происходит.
Выглянув в коридор и убедившись, что там никого нет, Лиза быстро подошла к телефону. Через минуту вернулась расстроенная.
– Лена ушла к этой своей Суздальцевой, собрала чемоданы и взяла мальчиков. Тетя Паша плачет, просит тебя скорей приехать.
– Ну вот, видишь. Надо ехать.
– Завтра позвони мне. И не переживай, Лена скоро вернется.
Лиза была расстроена не меньше Володи: и из-за Ляли, и из-за поведения Елены, и из-за того, что мужа упорно держат в тюрьме, в целом из-за череды несчастий, следовавших одно за другим по поговорке: пришла беда – открывай ворота. Радовали только девочки: Вера своими успехами в школе (была лентяйкой, но выезжала за счет хорошей памяти и способностей), и малышка, уже начавшая бойко ходить и говорить. Такая забавная девочка, и папа за все это время видел ее один раз в тюрьме, когда ей было восемь месяцев.
ГЛАВА 6
Дома доктора ждали новые неприятности. Не успел он войти в квартиру и обнять тетю Пашу, встретившую его со слезами, как позвонил главный врач института Герштейн.
– Он звонит уже пятый раз, – сказала тетя Паша, взявшая трубку. – Голос у него встревоженный. Ох, не к добру все это, Владимир Ильич. Пойду, подогрею вам ужин.
– Не надо, тетя Паша. Только кофе и коньячку, и захватите две рюмки, – ласково сказал он, не торопясь брать трубку. Было ясно, зачем звонит Герштейн: сообщить, что его отстранили от должности зав. отделением.
– Владимир Ильич, – сказал Григорий Моисеевич, – у меня крайне неприятные новости. Звонил Семашко. Ягода потребовал освободить вас от всех занимаемых должностей.
– И операций?
– На этом он особенно настаивал, заявил, что мы не имеем право допускать к операциям людей, которые не вызывают у них доверия. Что такое произошло? Никто не может понять. Семашко просил ни о чем его не расспрашивать и больше за вас не просить. Я в полной растерянности. Запланировано столько операций, на носу сессия в вузах, научная конференция в январе.
– Ничем не могу помочь, – упавшим голосом сказал Володя, – и вы мне не поможете.
Тетя Паша принесла в кабинет кофейник и коньяк.
– Ну, вот, тетя Паша, теперь я – свободная птица, – сказал он, выжимая из себя улыбку, – освобожден от всех занимаемых должностей. Садитесь, будем с вами пить кофе, коньяк и наслаждаться свободой.
Он налил в рюмки коньяк.
– Как же так, Владимир Ильич, чтобы вас от всего освободили? А больные? Они-то чем провинились?
– ГПУ, тетя Паша, до больных нет дела. В истории все повторяется. Помните нашего академика Бехтерева? Он при Николае II тоже несправедливо был лишен всех должностей, даже руководства институтом, который сам создал. Я с Владимиром Михайловичем встречался в Петрограде, посвятил его в свои дела, напомнив об этом событии. Он уверен, что новые власти на это не пойдут. Пойдут, товарищ академик, пойдут, – повторил Володя, наливая себе третью или четвертую рюмку коньяка и чувствуя некоторое облегчение от разговора с близким человеком.
Он окончательно опьянел. Тетя Паша постелила ему постель на диване в кабинете, помогла раздеться, укрыла одеялом. Сердце старой женщины обливалось слезами: так поступить с человеком, который, по ее мнению, был самый добрый на свете, отзывчивый и благородный, не говоря уже о его хирургических способностях. Не стоит его осуждать и за то, что он выпил лишнего. Иногда это даже необходимо, чтобы снять тяжесть с души. Этим все и ограничится. Владимир Ильич не из тех людей, которые падают духом. Завтра он что-нибудь придумает, и все образуется.
«И Елена тоже хороша, – упрекнула она жену профессора, которую всегда недолюбливала, – вместо того, чтобы поддержать мужа в трудную минуту, выкинула фортель, ушла и увела мальчиков. Подумаешь, изменил ей. С кем этого не бывает? У мужчин плоть такая, им иногда нужны перемены. Будь ты поумней, сделала бы вид, что ничего не произошло, а то в прошлый раз побежала в больницу, объявила ультиматум. Тебя, матушка, всем обеспечивают, так будь за это благодарна, сдувай с мужа пылинки, а не устраивай ему сцены».
Утром позвонил главный врач Боткинской больницы Соколов, давно переманивавший Володю к себе. В сложившейся ситуации он не может взять его к себе хирургом из-за указаний ГПУ, но готов принять на любую техническую должность, чтобы поддержать материально. «Вы сможете заниматься у нас научной работой и подготовите, наконец, учебник по нейрохирургии, который давно задумали», – сказал этот отважный человек. Тронутый его вниманием, Володя сказал, что подумает.
Вскоре позвонил Бехтерев. Ему, оказывается, еще вчера звонил Герштейн. Владимир Михайлович подтвердил, что ГПУ выставило перед всеми учебными и научными учреждениям запреты на его счет, но в его институте он сможет неофициально заниматься любой научной работой, и без денег не останется. «Будет выделять из своего собственного кармана», – грустно улыбнулся Володя, прекрасно зная академика. Бехтерев, как и обещал, собирался за него бороться и поговорить со Сталиным: тот с ним постоянно консультируется по поводу здоровья Ленина.
– Я вас жду в Петрограде. Приезжайте скорей.
– Мне здесь надо решить несколько дел, – сказал Володя. – Все они связаны с ГПУ, я боюсь вас подвести.
– Я стар для политических игр. Меня интересуют только наука и умные головы.
Воспользовавшись неожиданным бездельем, Володя решил поехать в Орел, пожить там некоторое время и поддержать Лялю. Жене он предоставил полную свободу действий, попросил ее вернуться домой и уделять больше внимания детям, которые теперь могут пострадать из-за того, что их отец попал под прицел ГПУ.
Не ожидая такого поворота событий, Елена вернулась домой, все мужу простила и больше не напоминала о Ляле. Ее приятельница Светлана заверила ее, что заключенные с такими серьезными обвинениями, как предъявили ее сопернице, из тюрьмы не выходят: ее ждет расстрел или лагерь особого назначения.
Помнила Елена и то, что ее отец, дядя Петя и Володин брат Михаил были арестованы в Киеве как контрреволюционеры. Миша был расстрелян, отец и дядя пропали и до сих пор о них ничего не известно. Такие сведения ГПУ собирает в свои талмуды, в нужный момент вытаскивает их на свет и принимает соответствующие меры к членам их семей, не щадя даже детей. В этой ситуации лучше тихо сидеть на своем месте, держаться за мужа и во всем ему помогать.
Она собрала Володе в дорогу вещи, приготовила кое-что из одежды для Ляли и попросила долго в Орле не задерживаться: им без него будет плохо. В ее голосе было столько искренности, что Володя со своей доверчивостью ей поверил, опять подумав, что плохо ее знает: она бывает резкой, неуравновешенной, но в нужный момент может быть и другой – внимательной, заботливой, чуткой, то, что ему сейчас было так необходимо.
Провожали его всей семьей. Мальчики повисли у него на шее и не хотели отпускать. Елена просила звонить каждый день в любое время суток, хоть поздней ночью. Тетя Паша прослезилась и перекрестила его на дорогу.
Елена связалась с Лизой. Только теперь, после вызова мужа в ГПУ и всей истории, приключившейся с ним, она осознала, что Володины родственники для нее – самые близкие люди, своего рода опора в жизни, за которую надо крепко держаться.
Со своей невесткой она была в хороших отношениях, но не более и не по своей вине: Лиза не впускала Елену в свой мир. Даже когда летом та приезжала к ним на дачу в Кунцево, они могли говорить о чем угодно, но о себе и Николае она не любила рассказывать и прерывала все разговоры о Володе, когда Елена начинала жаловаться на мужа. Обсуждать людей было не в Лизином характере.
Чтобы избавить детей от косых взглядов соседей, Лиза предложила Елене на время переехать к ним. Та с удовольствием приняла это предложение, надеясь больше узнать о Ляле и Володином сыне. В своем душевном порыве она готова была взять этого мальчика на воспитание. Со временем все забудется, в их семье снова наступит мир. Володю вернут в институт, восстановят в должности.
– Такого хорошего нейрохирурга, – говорила она тете Паше, – не могут отправить в отставку, а, если завтра опухоль в мозгу появится у самого Дзержинского или Троцкого, или еще у какой-нибудь советской шишки? Они непременно потребуют к себе профессора Даниленко.
– Да, да, Елена Сергеевна, – соглашалась тетя Паша, простив Елене все ее выкрутасы против мужа, – это чудовищная несправедливость поступить так с уважаемым человеком.
Лиза выделила им кабинет Николая. Уложив вечером детей, женщины стали обсуждать, как можно помочь Володе.
– Поездка в Орел ему только навредит, – сказала Елена, надеясь разговорить Лизу о ее подруге. Лиза промолчала. Что бы она сейчас ни сказала на этот счет, все обернется против Ляли и Володи.
– А сколько лет Лялиной маме?
– Кажется, 50 или чуть больше. Мы ее с Колей никогда не оставим, если что, возьмем Андрюшу к себе.
– Почему вы? Мы сами его возьмем. Я уже смирилась со всем и не сержусь на Володю.
– Пока об этом рано говорить: Лялю могут выпустить, да и Ядвига Болеславовна его не отдаст. Она сама в состоянии воспитывать внука.
– Как ты думаешь, мне стоит по поводу Володи сходить на прием к Семашко или Дзержинскому?
– Не знаю. Семашко сам должен понимать, что значит для медицины потерять такого хирурга. Володю уважает Ленин. Но, говорят, он сильно болен и живет сейчас в Горках, под Москвой. Надо подождать, что получится у Бехтерева. За Колю несколько раз заступался его друг Аристов и сам Бухарин. Все равно его снова забрали.
Лиза хотела пройтись на счет власти, но вовремя спохватилась: невестка была не тот человек, с которым можно обсуждать подобные вопросы. А Елене, наоборот, хотелось с ней поговорить о Михаиле, своих пропавших родных, маме и сестрах, уехавших за границу. Она стала рассказывать Лизе, как они впервые встретились с Володей на крестинах Катюши, как тогда все были счастливы, особенно ее дядя, Петр Григорьевич, созвавший на праздничный обед полгорода, но тут из соседней комнаты ее позвал Павлик, и она ушла к детям.
– Вы, почему не спите? – строго спросила она, присаживаясь на диван к Павлику, своему «зайчику». Приподнявшись, он обнял ее за шею.
– Мама, почему от нас папа уехал?
– Он скоро вернется, у него важные дела…
– Он в тюрьме?
Елена вздрогнула.
– Откуда ты это взял?
– Вера сказала, что всех людей, которые побывали в ЧК, сажают потом в тюрьму. Дядя Коля там находится два года.
– Папа по делам уехал в другой город. Он скоро вернется, все будет хорошо.
– А зачем ЧК устроила у нас обыск? – спросил Шурик. – Оно просто так не приходит. Папа – контрреволюционер. Его могут расстрелять.
Елене стало не по себе, пробежал мороз по коже.
– Никто его не расстреляет. Он у нас – самый лучший. Через неделю он приедет, вот увидите, и мы вернемся домой.
– Дядю Мишу расстреляли, он тоже был хороший, и дедушку, – сказал Шурик. – Большевики – плохие.
– Что ты, – растерялась Лена, никогда не слышавшая от детей таких рассуждений, и поняла, что они исходят от Веры. – Лучше посмотрите, как здесь за окнами тихо, не то, что у нас на Сретенке. Девочки давно спят. И вы спите, я с вами посижу.
Когда они уснули, она вернулась к Лизе и рассказала о разговоре с мальчиками.
– Что же ты хочешь, – сказала та спокойно – они сами видят, что происходит вокруг, теперь эта беда непосредственно коснулось вашей семьи. Ты с нынешней властью не сталкивалась, а мы в Ромнах всех перевидели, и большевики себя вели не лучше других. О том, что произошло с их отцом, мальчики, может быть, со временем забудут, а вот про дедушку, Петра Григорьевича и дядю Мишу спросят и не раз. Что ты им тогда скажешь?
На свидание с Лялей Володю не пустили, сказав, что к таким «опасным» преступникам допускают только близких родственников. И посылку отказались принять, хотя у Татьяны неделю назад все приняли и принесли от Ляли записку для Ядвиги Болеславовны. Что-то изменилось за эти дни…
Пришлось обратиться за помощью к главному врачу городской больницы Николаю Филипповичу Бодрову. Тот в его присутствии связался по телефону с тюремным врачом. Оказалось, что Ляля уже несколько дней находится в лазарете с пиелонефритом. Состояние ее крайне тяжелое, температура под 40 и не снижается. Володя выхватил у него трубку. «Как же так, – закричал он срывающимся голосом, – неделю назад она была в порядке, и уже такой диагноз». «Вы, кто ей будете?» – недовольно спросили на том конце. «Ее знакомый, врач». «Как врач врачу скажу вам, что больше двух недель она здесь не протянет. Да и держать ее в лазарете долго не разрешат. Вернут в камеру, а там люди спят по очереди в несколько смен, и на стенах иней. Теперь вам понятно, в чем дело?» – и положил трубку.
В Орле еще не знали об его отстранении от должности.
– Что там у вас в Москве происходит? – спросил Бодров, приезжавший к ним как-то в институт перенимать опыт работы. – Шлют и шлют сюда арестованных партиями, камеры переполнены, кормить людей нечем.
– Не знаю, – ответил Володя и без всякой надежды спросил. – Нельзя ли эту больную срочно перевести к вам в больницу, я бы ее сам лечил?
– При всем уважении к вам, Владимир Ильич, это невозможно. Только через ГПУ.
– Я вас понял, Николай Филиппович. Спасибо вам за все.
Пиелонефрит – не такое страшное заболевание, но при отсутствии лечения (или плохом лечении) оно может привести к серьезным осложнениям и, в конце концов, – к летальному исходу. У Володи возникла отчаянная мысль: попросить Николая подписать покаянное письмо с условием, что Лялю навсегда выпустят из тюрьмы. Пока время не упущено, он сам ее вылечит. С такой надеждой он вернулся в Москву.
Николай категорически отказался идти на такое соглашение.
– Тебе твоя гордыня важней, чем жизнь Ляли, – разозлился Володя. – Если сейчас болезнь не остановить, завтра откажут почки, наступит конец. Ни я, ни ты себе этого не простим. Подумаешь, подписать какую-то никчемную бумажку, что ты принимаешь советскую власть. Ты ее и так принимаешь, от нее теперь никуда не деться.
– Да не это важно. Сам факт подписи и обещание вступить в их партию.
– Какое все это имеет значение по сравнению с человеческой жизнью!?
– А ты уверен, что ГПУ пойдет на такую сделку? Для них это – игра, развлечение. Пообещают, а сами ничего не сделают и еще посмеются над моей доверчивостью.
– Прошу тебя, давай попробуем. Я уже достал необходимые лекарства. Пока протянется вся эта канитель, пройдет еще две недели или больше. Время идет на счет. Вспомни об Андрюше, об Олечке. Вы потеряли дочь, Андрюша потеряет мать.
Упоминание об умершей дочери больно задело Николая. Брат знал, на какую мозоль наступить.
– Хорошо, – сказал он, не зная, куда деться от охватившей его безысходности, – так и быть, выполню твою просьбу.
– Ты давно не видел своих детей, – продолжал обрабатывать его Володя, хотя в этом уже не было необходимости. – Алена растет без тебя. Мы должны жить ради них, а всю эту политику с ее борьбой – к черту. Я всегда тебе говорил, что она до хорошего не доведет. Ты сам из-за этого столько страдаешь. Мишу и Ваню потеряли, теперь другие мучаются.
– Всех собрал. К Лялиному аресту я не имею отношения.
– Прямого не имеешь, а косвенно он связан с вашей бессмысленной революцией. Давай, не теряй времени, вызывай своего следователя.
На деле оказалось все не так просто. Узнав об условии Николая (отпустить из другой тюрьмы тяжелобольную заключенную Хазину), следователь сказал, что сам такое решение принять не может, нужно связаться с высшим начальством в ГПУ.
– Только, пожалуйста, быстрей, – попросил его Николай, теперь сам заинтересованный, чтобы дело срочно решилось, – а то она тяжело болеет.
ГПУ тянуло почти две недели. Володя за это время еще раз съездил в Орел и передал в лазарет лекарства. И только 3 января Николая вызвали к следователю. Вежливо улыбаясь, тот сообщил ему, что его просьбу удовлетворят, как только он подпишет письмо.
Николай с тоской перечитал текст, который знал наизусть, и поставил в конце свою подпись, расшифровав ее по просьбе следователя печатными буквами. Он не испытывал ни радости (вместе с Лялей из тюрьмы отпускали и его), ни горечи поражения, ни презрения к людям, заставившим его пойти на сделку с собственной совестью: только глубокую боль, застрявшую в его сердце, как острая заноза. На выходе из тюрьмы ему выдали две справки: для работы и в университет. В них указывалось, что 7 ноября 1921 года он был задержан как анархобандит и находился в тюрьме до 5 января 1924 года.
Через час он был дома и не спускал с рук маленькую дочку. И в этот же день вечером провожал на вокзал Володю. Тот выглядел счастливым. Во-первых, Бехтерев добился, что его снова восстановили во всех должностях и даже извинились из ГПУ от имени Дзержинского за «допущенную по невнимательности некоего товарища ошибку», во-вторых, – увидит Лялю. Ее освободили и поместили в городскую больницу Орла.
Николая тоже восстановили в должности на работе (помнили еще, кто его туда устраивал) и на медфаке МГУ. Все это время в тюрьме он упорно занимался, чтобы в январе-феврале сдать экстерном экзамены за весь первый курс (остальные потом). Володя пожелал ему успехов и попросил сообщить об его отъезде Ядвиге Болеславовне – она еще не знала об освобождении дочери.
ГЛАВА 7
В середине января из подмосковных Горок стали приходить особенно тревожные известия: у Ленина резко ухудшилось здоровье. Газеты ежедневно печатали бюллетени о его состоянии с указанием температуры, давления, пульса, цвета кожного покрова и т.д. Николай просматривал все газеты, но не для того, чтобы узнать новости о здоровье ненавистного ему человека, а увидеть свое позорное письмо, которое до сих пор не опубликовали. Он надеялся, что в связи с этими событиями о нем забудут, но не тут-то было. 21 января Ильич умер, а 24 января письмо появилось в «Правде». ГПУ все заблаговременно рассчитало: вот, мол, как на всех подействовала смерть Ильича, даже враги партии отказываются от своих взглядов и готовы продолжить дело великого вождя.
Для него этот день стал черным. Звонки от близких друзей, восклицавших, «как ты мог!?», «от кого-кого, а от тебя мы этого не ожидали», больно ранили его и без того истерзанную душу.
В один из этих дней он неожиданно столкнулся с Карелиным, выходившим из дверей Моссовета, совсем старым и белым, как кудесник с известной картины Васнецова. Но Аполлон Андреевич оставался все еще деятельным: много помогал арестованным анархистам и, по слухам, продолжал тайно выполнять свою масонскую миссию «рыцаря Сантея», уже попавшую под прицел ГПУ (почему Петр Остапенко и сбежал из Москвы).
Обычно при встрече они не замечали друг друга, все еще помня о парижском конфликте. А тут Аполлон Андреевич сам остановил Николая, протянул руку и, глядя ему в глаза, приветливо сказал, намекая на публикацию в газете: «Весьма, весьма сочувствую. Догадываюсь, что этот шаг вам дался нелегко. Социалистическая диктатура наступила нам всем на горло, но сломить нас внутри ей не удастся».
Приподняв шляпу и тяжело опираясь на палку, он пошел дальше, оставив Николая в полной растерянности. Что он имел в виду, когда сказал «нас»? Значит, в душе он ненавидит большевиков и считает Николая своим единомышленником? Как бы там ни было, ему было приятно, что Карелин понимал его внутреннее состояние и посчитал нужным сказать об этом.
Лиза тоже убеждала мужа, что это письмо ничего не значит, в душе они оба по-прежнему презирают власть и остаются сами собой. Главное, что Николай вышел на свободу и вытащил из тюрьмы Лялю. Это дорогого стоит. К сожалению, болезнь ее прогрессировала, она потихоньку угасала. Володя до сих пор оставался в Орле, теперь уже стараясь облегчить ее мучения от сильных болей.
В такой обстановке Николай сдавал экзамены. В его зачетной книжке по всем предметам в основном стояли «хор» и «отл». Единственный «уд» затесался по латыни, которую он неплохо знал в гимназии и, надеясь выскочить за счет прежних знаний, плохо справился с переводом медицинского текста.
Последний экзамен по химии был 18 февраля. Он сдал его на «отлично» и из университета позвонил домой Лизе, чтобы обрадовать ее. Она сказала, что они с Аленой собираются идти гулять во двор. Пусть он приходит туда, останется с дочкой, а она пойдет в магазин. Это означало, что она собирается купить что-нибудь особенное к обеду и отметить его успехи.
Он сидел на скамейке и впервые за все последнее время наслаждался полной свободой: над ним больше ничего не висело. История с проклятой публикацией в «Правде» ушла в прошлое: друзья повозмущались и успокоились.
Маленькая дочка возилась рядом с ним, строя лопаткой снежную горку. Временами она поднимала голову, чтобы проверить, не ушел ли он куда. «Играй, Аленушка, играй, – улыбался он, гладя ее по головке, – папа теперь всегда будет рядом с вами». Какая Лиза все-таки молодец, что родила ее. Без нее уже немыслимо представить свою жизнь, хотя старая боль об Олечке по-прежнему кровоточит и будет, наверное, терзать их обоих до самой смерти.
В конце двора вернувшиеся из школы дети играли в гражданскую войну, обстреливая друг друга снежками. Вера была в первых рядах, возглавляя группу белогвардейцев. «Бей красных», – возбужденно кричала она, вспоминая тех мерзких людей в буденовках, которые арестовали их однажды в Ромодане. Он хотел ей сделать замечание, чтобы не очень горячилась на счет красных, как те начали побеждать и загнали белогвардейцев в беседку, откуда им нечем было отстреливаться. У детей была своя жизнь, они весело проводили время. В траурные дни школьников целыми классами водили прощаться с Лениным в Дом Союзов. После этого их повсеместно принимали в пионеры – организацию, которой по горячим следам присвоили имя Ленина. Вера тоже туда вступила, разучив перед этим слова торжественной клятвы. «Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира. Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича, законы и обычаи юных пионеров». Вот так большевики обрабатывали души школьников. До революции в городах были детские отряды скаутов. Теперь они стали юными ленинцами, носили красные галстуки и ходили с барабаном и красным знаменем по московским улицам.
К нему подлетела Вера. Она теперь не ходила, а бегала, прыгала, скакала то на одной ноге, то на другой, то гоняла ледышки, как будто не могла устоять на одном месте, столько в ней было энергии.
– Папа, там почтальон спрашивает нашу квартиру. У него телеграмма.
– Веди его сюда, – сказал он, поднимаясь навстречу пожилому мужчине.
– Вы из 4-й квартиры? – спросил тот, раскрывая толстую тетрадь. – Телеграмма для Даниленко.
– Я – Даниленко. Документ нужен?
– Верю так, только распишитесь
Телеграмма была от Володи из Орла. Подождав пока почтальон отойдет, он вскрыл ее. У него потемнело в глазах. Брат сообщал: «Ляля умерла на моих руках в страшных муках. Везу ее тело в Москву. Подготовьте Ядвигу Болеславовну».
– Папа, что там? – спросила Вера
– Ничего, дочка. От дяди Володи. Он возвращается в Москву.
– Хорошо, – сказала она и, разбежавшись, покатилась по раскатанной во весь двор ледяной дорожке. Две толстые косы с большими черными бантами запрыгали по спине.
Николай вернулся на свое место. Весь мир как будто изменился. Солнце скрылось за церковью, и длинная тень от нее легла на весь двор и скамейку. Вспомнил, как он упорно отказывал Володе подписать покаянное письмо, и у него заныло сердце. Стоило ли это проклятое письмо вместе с его авторами – большевиками, хоть одного пальца Ляли. И вообще, что может быть ценней человеческой жизни?!
Во дворе со стороны Брюсова переулка появилась Лиза. Она шла, улыбаясь ему и одаривая улыбкой всех, кто встречался на ее пути. Он встал и, не имея сил сдвинуться с места, смотрел на свою красавицу жену. Вот идет женщина, которая перенесла столько испытаний, потеряла дочь, нашла в себе мужество родить еще одного ребенка, терпеливо ждала возвращения мужа из тюрьмы, и он ни разу не услышал от нее ни вздохов, ни упреков, ни жалоб. Женщина, дарованная ему судьбой и ставшая частью его самого. Вера, весело катавшаяся до этого по ледяной дорожке, заметила, что папа встал со скамейки и смотрит на маму, и, понимая, что между ними что-то происходит, удивленно переводила взгляд то на нее, то на него.
Нащупав в кармане телеграмму, он решил пока ее скрыть от Лизы. Еще хватит ударов на их головы, а сегодня ее день, и пусть он сегодня превратится для этой улыбающейся женщины в праздник. Он взял у жены сумки, Вера позвала сестренку, и они не спеша направились к своему дому. Они были счастливы.

